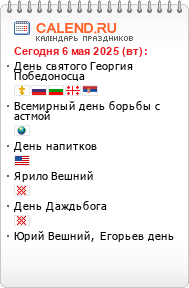К 165-летию со дня рождения Ф.А.Васильева.
ДНЕВНИК ВАСИЛЬЕВА
Когда на море шторм и кораблю грозит гибель, если отцепить якорь не удается, рубят жвака-галс, который крепит якорную цепь к кораблю. Сломать якорь нельзя. Старый моряк, который мне это рассказывал, говорил, что видел гнилой якорь, но сломанный никогда. Может быть это и возможно, при очень сильной буре, или если в якоре есть какой-то внутренний брак или дефект, какая-то трещина. Делают его из кованого чугуна и выдерживает он огромные нагрузки.
Это отвечало каким-то моим внутренним сомнениям. Интуитивно я чувствовал, что сломать якорь невозможно, и здесь есть какая-то загадка.
…Мы стояли высоко на берегу, на старом кладбище. Далеко внизу простиралось море. Моросил мелкий, обычный для Крыма дождь. Я с интересом рассматривал большой черный якорь на могиле погибших моряков. Он был совсем не такой, каким приходилось видеть его на картинках.
- Адмиралтейский… - Сказал с восхищением мой собеседник.
- Якорь – это символическая часть корабля, это его сердце. Если погибает корабль или его списывают, достают якорь и хоронят. Хоронят так же, как людей. Древние греки и римляне считали якорь священным орудием. Его изготовление завершалось особым религиозным обрядом. В храме Зевса якорю воздавались пышные почести с принесением жертв. Если кораблю грозила гибель, он был последней надеждой на спасение.
Я старался запомнить новые для меня названия и детали якоря – большие мощные лапы, серьга, которой он крепится к массивной многотонной цепи, анкершток – большой кованый стержень, он не дает якорю упасть, лечь на грунт и если он погибает, то только стоя…
***
Утро еще не наступило и набережная тонула в глубоких и мрачных тенях. Лишь один огонек светился в киоске рядом с «Ореандой», привлекая загулявших прохожих. У моря было холодно. Я быстро продрог на продуваемой ветром скамейке и побрел вдоль гранитной ограды. Море неприветливо плескалось рядом. Его черная гладь терялась вдали, сливаясь с таким же темным небом.
Ялта в это время меньше всего знакома отдыхающим. Но и придавленная глубоким сном, она жила своей жизнью и что-то происходило на заваленной мусором набережной и пустынных улицах. Дворники еще не появились, но возле кафе и киосков уже усердно мели тротуары. Подгулявшая компания выясняла отношения с таким же полупьяным и сонным барменом. За этой сценой равнодушно, ко всему привыкшим взглядом наблюдала женщина средних лет под старым зонтом на скамейке. У ног её спала приблудившаяся собака и еще кто-то лежал в тени… Видимо, они так и провели здесь ночь. Асфальт был еще мокрый. С вечера шел дождь…
Я прошел до конца набережной, свернул в какой-то переулок, потом мрачную подворотню. Уже начинало сереть крымское небо и в темноте проступали пустые колодцы дворов. В углу, между домами, рядом со ступенями в какой-то подвал, была свалена огромная куча мусора, которого хватило бы на две машины. Скорее всего, подвал недавно чистили, освобождая место для какого-нибудь кооператива.
Трудно было пройти мимо этой груды старого хлама, которая таила в себе столько интересного. Но, меня уже опередили. Кем-то были отставлены в сторону несколько старых бутылок с узкими горлышками и вогнутым дном. Из того, что осталось я выбрал сломанную керосинку, жестяную коробку из под конфет фабрики Абрикосова и большой сундук, набитый газетами и старыми учебниками. Видимо, его поленились разгружать, не ожидая от содержимого ничего интересного. Газеты и правда были не столь древние, а с такими учебниками еще мне приходилось ходить в школу. Но ближе к середине сундука, как при раскопках, пошел более «древний» слой. Попалась книга по бухгалтерскому учету начала прошлого века, какие-то журналы и большой альбом по архитектуре 1850-х годов, весь исчерченный синим карандашом. На каждом листе были какие-то записи и перекрещенные во все стороны квадраты. Может быть румынские солдаты, коротая время в оккупированной Ялте, играли в преферанс и «расписывали пульку» на страницах старого фолианта.
Сундук был уже почти пустой и я, больше «для очистки совести», ни чего не ожидая, выбросил ненужные бумаги…
На дне лежала толстая зеленая тетрадь. Страницы её от влаги местами склеились, а несколько первых листов совсем пропали. На них уже нельзя было ничего разобрать. Но дальше, почти до самого конца, тетрадь была исписана, и перед каждой записью стояла дата – 2 февраля, 15 марта, 23 ноября… 1872 года. Даже первого взгляда было достаточно, чтобы понять, что это интересная находка.
Это, видимо, был дневник и касался он Ялты конца XIX века:
«Лето в Крыму уже надоело: жара – несносная, зелень – густа до безобразия; розы и всякие другие цветы приводят в исступление…»
«А море – то, море! Тихо катятся перламутровые, блестящие волны…»
Но, чей же это дневник? Ни каких указаний на это не было, лишь на последней странице удалось разобрать полустертую надпись карандашом: «Третьякову долг – 650р., Обществу – 800... Всего 1950 рублей».
И больше ничего. Правда на обложке, в правом верхнем углу, стоял какой-то значок, или просто «закорючка» похожая на подпись. То ли половинка от старой буквы «фита» или какой-то рисунок, напоминающий сломанный якорь…
***
Поезд мой уходил на следующий день. Я успел узнать, что дом этот до революции принадлежал какому-то инженеру, больше жители его ничего не помнили и пояснить не могли. К вечеру груду мусора вывезли и если бы не зеленая тетрадь, которую я не выпускал из рук, можно было бы подумать, что все это сон.
Уже в вагоне, под стук колес, я вспомнил маленький и скромный памятник. Очень маленький и очень скромный, с небольшим бронзовым бюстом. Я видел его по дороге на новый рынок. Он стоял чуть в стороне, в глубине аллеи. Люди шли мимо, спешили за покупками и никому, кажется, не было до него дела.
Я подошел тогда к памятнику и обратил внимание на засохший букетик цветов, и даже прочел надпись… Надпись… И вот из глубины памяти выплыло то, что стыдно не помнить:
«Здесь… жил и умер великий русский художник Федор Васильев».
***
Как только соседи по купе устроились на своих местах, я забрался на верхнюю полку и достал тетрадь. Поезд тронулся и строчки прыгали перед глазами, но я пытался разобрать размытые, едва заметные буквы. Почерк был мелкий и неразборчивый, но все же удалось прочесть первую запись. В ней было лишь несколько слов: «18 июля. Выехал в Ялту, имение императрицы…»
***
Федор отложил тетрадь и долго смотрел в окно. Там шумел мокрый сад, а далеко за рекой слышались последние раскаты грома. В пустом доме где-то хлопали ставни. Он окинул в последний раз взглядом свою комнату – мольберт, подрамники, зеркало на столе. Вспомнил: - Надо бы оставить записку Крамскому. Может все-таки приедет? Ведь вместе собирались в Крым. Но его все нет, а ждать уже нельзя и Великий князь торопит с заказом, да и Третьяков зря деньги платить не будет.
От грустных мыслей его отвлек чей-то сдержанный кашель. В дверях уже давно стоял здоровенный парень, выжидающе глядя на него.
- Федор Александрыч, может утром поедем? Сыро, простудитесь ещё.
- Что ты, Дементий, поезд он ведь ждать не будет.
До станции было несколько верст. Ехали молча. Федор так и не обернулся, знал, что уже не вернется…
По мокрой платформе, кутаясь в шинели, ходил дежурный. Но вот он остановился, прислушался и посмотрел куда-то вдаль и сразу, уже совсем близко, раздался тревожный гудок паровоза и из ночной темноты выплыли два желтых горящих глаза.
***
В первый же день после приезда я отправился в библиотеку и взял там все, что было о Васильеве.
Да, в конце мая 1871 года он, по совету врачей, уезжает из Петербурга в имение П.С.Строганова Хотень в Харьковской губернии. У него открылся туберкулез легких и горла. Крамской в это время заканчивал картину «Майская ночь», а в августе, вместе с Васильевым, собирался ехать в Крым. Но состояние здоровья Васильева ухудшилось и, не дождавшись Крамского, он уезжает в Крым… 18 июля.
Уже из Ялты он посылает на конкурс свою знаменитую картину «Мокрый луг». Шишкин выставил «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии». Жюри конкурса было в замешательстве, не зная кому из них дать первую премию. Обе картины были по своему замечательны – это был новый шаг в русской пейзажной живописи. Предлагали даже учредить две первые премии, уж очень был большой разрыв между ними – 1000 и 200 рублей. Но, все же, Васильев получил вторую. Картину на конкурс он не подписывал, поставил лишь небольшой значок в углу, похожий на букву «фита» старого русского алфавита, от имени своего – Федор.
Это был сломанный якорь.
***
Дневник начинался записями 1871 года. Их было немного и касались они работы над картиной «Мокрый луг». Две страницы не удалось разобрать, а дальше только обрывки фраз проступали на пожелтевшей бумаге:
27 декабря
Много радости, но много и горя принесла мне эта выставка. Радости – потому, что осуществилось то в чем и я чуть-чуть был замешан, а горести – от того, что я сам не могу гнаться вместе с другими, сброшенный сердитым вихрем и засыпанный пылью, сквозь которую даже не видать моих горьких слез. О! Судьба, судьба! Скверное, душное мое настоящее; далеко и невозвратно мое светлое прошедшее, моя юность; будущее…
Однако и довольно! Это можно про себя держать…
Жизнь здесь идет скучно. Однообразие невыразимое. Еще хорошо, что могу понемногу работать. Погоды месяца полтора стоят вроде петербургских – дожди, грязь и холод; даже мороз один раз доходил до 2 градусов. Все это я, впрочем, пишу по рассказам, не имея возможности собственною персоной проверить, все ли подлинно и верно. Уже два месяца, как не выхожу…
В настоящее время я желаю изобразить утро над болотистым местом… О болото, болото! Как болезненно сжимается сердце от тяжкого предчувствия. Ежели не удастся мне опять дышать этим привольем, этой живительной силой просыпающегося над дымящейся водой утра? Ведь у меня возьмут все, все, если возьмут это. Ведь я, как художник, потеряю больше половины! Но довольно. Ей-ей навертываются слезы. Слезы? Неужели это знак примирения в этом случае?.. Нет!
Каких только мыслей не толпится в голове! И холодные, как мертвецы, и горячие, как первая любовь! Но мертвых, холодных – больше. Какие картины! Только написать их нечем: не выдумали. А впрочем, и пущай…
На этом записи 1871 года заканчиваются. 1 января была сделана какая-то пометка в дневнике, но разобрать её невозможно. Зато дальше была целая страница чистого текста. И снова записи. Васильев в восторге от природы Крыма, он расточает ему похвалу и полон желания работать.
8 января.
Сегодня получил ящик с красками. Теперь у меня одна комната будет полна красок. Это очень хорошо, ибо картины большие. Одна в 3 арш. 4 верш. длиною, другая не менее полутора аршин.
О, Крым! Что за погоды, что за поэзия! 12 градусов по Ремюру, солнце не щадит тепла и света, деревья (миндальные) цветут: свежесть первого дня творения! Какой-то философ сказал, что люди, «любящие природу, - люди, верующие в бога». Совершенно согласен.
9 января.
Из окна наслаждаюсь природой. Что за прелесть! Яркое, как изумруд, море усеяно катерами: охота на морских свиней в полном разгаре. Часто видишь их массивные черные спины с толстым плавником; это они выглядывают из воды подышать воздухом. У горизонта море принимает замечательно неуловимый цвет: не то голубой, не то зеленый, не то розовый. А волны неторопливо идут откуда-то из далека отдохнуть на берег, на который они впрочем, грохаются самым неприличным образом.
Волны, Волны! Я, впрочем, уже начинаю собаку доедать относительно их рисунка; но успел совершенно убедиться в следующем: вполне верно, безошибочно их ни рисовать, ни писать не возможно, даже обладая полным их механическим и оптическим анализом. Остается положиться на чувство, да на память.
Думаю написать большую штуку с волнами…
Боже мой, что это за край! Тепло, светло и ароматно. Совершенно особенное состояние воздуха. Нельзя сказать, чтобы лето; поздней осенью тоже нельзя назвать: нет, это что-то совершенно особенное, это южная зима. Даже странно употреблять это слово «зима». Хороша зима – 15 градусов тепла! Одним словом, если бы человека, не бывшего на юге, привезти сюда невзначай, без его ведома, с завязанными глазами, и вдруг окунуть в эту атмосферу и спросить: где он находится, то его ответ будет непременно этот: «Ну, брацы, ей-ей, не знаю, какое время года, и ясно только для меня, что я не тутошний».
13 января.
В этот промежуток было черт знает что такое, а не впечатление. В голове моей было так же пусто, как в выпотрошенной курице.
В Ялте Федор Васильев сменил три квартиры. Первая, в которой он жил с семьей, квартира Бейлиса. Из его записей можно понять, что она выходила окнами на море. Есть в дневнике и её более полное описание.
14 января.
Передо мной расстилается мое неограниченное царство – квартира в доме Беймана. Пределы этого царства покрыты, с одной стороны, дымом от чугунной печи. Как белоснежная вершина Эльбруса, вздымается на сундуке голова сахару. Чистого соснового дерева мольберт растопыривает свои неуклюжие ноги и как бы говорит: «Ах ты! Еще художник!» Странное свойство имеет эта квартира. Кажется вся она состоит из заплаток со старых парусиновых матросских штанов. Потом, как будто везде лежат и висят какие-то лоскуточки, бумажки от леденцов и корпия. Но ничего подобного нет: подойдешь и убедишься, что этого действительно нет, а что это только кажется; одним словом, уж такое свойство и в окраске, и в штукатурке. Потом в этой квартире, в каждой комнате по стольку дверей и окон, что вы ни как не можете избежать простуды: архитектор так остроумно направил на каждый пункт по нескольку сквозных ветров, что только разводи руками от удивления.
Вот стоит кровать, на которой спит мама: совершенно Собакевич если бы он встал на карачки. Вот стулья, похожие на того же Собакевича в другом положении. Над кроватью висит зеркало и совершенно равнодушно показывает одну рожу, кто бы ни смотрелся, так что я называю его зеркалом с своею собственною физиономиею. Комнаты вообще устроены и меблированы не особенно, можно сказать, дурно: есть и зеркало, и диван; да мало ли еще что: диван, зеркало… Одним словом, не дурно. Жаль только (это конечно пустяк), что на диване неудобно сидеть по его необыкновенно малому размеру, и уж я хотел подложить этакие… полешки; да как-то неловко: ведь в этой комнате зеркало и все такое, а тут вдруг – полешки.
Горесть вся вышла при взгляде на мои апартаменты с философической точки зрения. (По случаю утомления автора продолжение в следующий раз).
16 января.
Ох, приближается время исповедоваться в болезнях. Доктор говорит, что болезнь легких хотя и ухудшилась от последнего воспаления, но в конце лета, вероятно, пройдет; «эти болезни здесь исправляются» (его собственные слова). Что же касается горла, то привожу его слова целиком: «Вам придется (мне т.е.) полечиться еще годика два. Зимою Вы поезжайте в Италию, а именно в Ментону; лето – надо же Вам и искусство также беречь – вы проживите в Риме. Горло у Вас идет если не к лучшему, то уж не к худшему никак. Хорошо, если не будет холодов: тогда Вы через полгода можете позволять себе разговаривать понемногу и тихо, не волнуясь. Вам необходимо очень беречься все это время; иначе в Италии Вы не будете в состоянии осматривать внутренности церквей и палаццо».
Одним словом скверно, как ни поверни.
2 февраля.
Кончаю, по необходимости картину, которая больше подвинута; но к несчастью подвинута самая плохая. Как мало – какое мало, совсем нет у меня времени!!! Просто бесишься: мотивов, мотивов – чертова пропасть, а вместе с тем жалкое сознание невозможности все это написать. Нет, как там ни толкует Иван Иванович, а и Крым, юг т.е. вообще, имеет такие стороны, которые ничуть не уступают северу. Впрочем, он, я думаю, не доволен не югом собственно, а ужасной односторонностью художников, которые берут один казовый конец, т.е. по уши залезают в однообразие. А впрочем, кто его знает, что он думает? Из его слов очень трудно что-нибудь положительное вынести.
Страдаю я теперь невыносимо от того, что все начатое – дрянь, особенно по мотивам, и только теперь, когда нет никакой возможности начинать другие картины, новые, только теперь, выступают в голове настоящие картины, действительно мотивы. Да черт ли в этом? Надо хоть прежние окончить, а то приедешь в Питер с голыми руками, и перчаток не на что будет купить!
А залез в долги по уши. Уже 2500 есть, а еще придется тысячу до октября просмолить…
Одна строчка была зачеркнута, но с трудом её можно было разобрать: «Так тяжело живется, так скверно, так скверно».
И дальше: «По временам становится так холодно и все равно, что просто не дай бог!
То страшные и печальные, то болезненно живые картины не перестают создаваться в уставшем мозгу и, как вечный кошмар, давят и гнетут мою бедную душу. И нет ни какой возможности переменить этого, потому что окружающее не дает ни каких средств, а только заставляет все глубже и глубже, до помешательства, уходить в себя. Скоро ли пройдет это ужасное время?
Ведь ни как не утерпишь: непременно где-нибудь прорвешься и захнычешь – гадко! Ну и пусть написано то, что пишется бесконтрольно.
1 марта.
Крым постепенно оживляется: небо чаще и чаще показывает образчики голубого цвета, с каждым разом темнее и темнее; деревья вместо листьев покрыты густыми партиями цветов и испускают самое соблазнительное благоухание; снег на горах остался только в долинах и ущельях не ниже 2000 футов; морю наскучило, наконец, кувыркаться, и оно самым степенным образом бормочет у берега. Больные, как мухи, оживают и выползают во всех направлениях с самыми, впрочем, однообразными рожами, не выражающими никакого особенно удивления ни к чему, даже к тому, что остались живы.
Я тоже выхожу и, должен признаться, очень за последние два месяца поправился и даже потолстел, а буркулы, которые и прежде не отличались величиною, совсем начинают превращаться в изюм, который усердная кухарка попихала в тесто кулича… Но я надеюсь летом спустить это необычайное приращение жира, причиняющее мне великое смущение.
Мамаша тоже понемногу поправляется, а про Романа и говорить не стоит: поросенок – одно слово.
Мама сидит напротив меня и полощет какую-то траву, клятвенно утверждая, что это – настоящий салат, который растет в саду Клеопина в диком состоянии. Гм… может быть, небезынтересно будет описать нашу комнату и её обитателей.
Одиннадцать часов вечера; весьма изящная лампа освещает стол, покрытый желтой скатертью с белыми разводами (совершенная яичница), полоскательную чашку, бутылку, четыре коробки табаку самых разнообразных видов и цветов, половину булки, величина которой была, вероятно, не менее нескольких сажень, начатый чулок, съёжившийся, как карась на сковородке. Но есть и более привлекательные предметы. Вот, например, стоит тарелка с водой, покрытою густым слоем фиалок, разливающих тонкое благоухание; или вот эти белые, нежные, как пух, цветочки в банке из под варенья, ярлык которой гласит, что сим производством занимается некто Абрикосов, купецкий сын. Есть даже художественные произведения, как-то нарисованный Романом цветок, вырастающий не то из корзины, не то из мужской шляпы, растут не цветы, а как будто растопыренные руки. Мама кончила убирать салат, растущий в диком состоянии, и шьет, а Роман валяется на постели и от избытка чувств декламирует то «Что ты ржешь, мой конь ретивый», то «Нива моя, нива»… Но вот бросается мне в глаза распростертая на дверях шкурка морского нырка, убитого мною на днях, из которого мама хочет сшить себе муфту, хотя шкурка имеет не более четверти. Вот мы теперь хохочем с мамкой над нашей хозяйкой, у которой язык ни за что не хочет выговаривать, как нужно, от чего являются слова: «разбовники», «шкварцы», «мырки», «ведмедь» и проч. Есть у них всех, у наших т.е. хозяев, и другие странности, не менее замечательные; но их не стоит заносить на бумагу, ибо они много потеряют из своей прелести. Однако уже Роман нахрапывает и без 20 минут 1 час. Пора и честь знать, особенно людям, которые лечатся, как я.
2 марта.
О боже мой, боже мой!.. Скоро ли пройдет это ужасное время! Я уже около месяца ничего не делаю: это происходит от того, что состояние духа какое-то унылое. У меня теперь начатых картин всех вообще – три маленьких и пять больших, из которых одна три аршина в длину, да два в вышину. На этом холсте у меня начато море. Может быть, выйдет что-нибудь похожее на море – постараюсь. Момент взят к вечеру, освещены волны сзади из светлой полосы на небе… Ужасно устаю её писать; руки ужасно болят: так долго приходится замазывать воздух. Но все-таки холст оказался меньше, чем нужно. Во всяком случае, если мне не удастся выполнить её, как хочу, или хоть приблизительно, то я её уничтожу.
Остальные не лучше, также и картина В. Князя, которая не задается… Что это за мерзость! Просто потеха, да и только, совершенно пейзажи Еремеевского, с примесью еще какого-то наиглубочайшего безобразия в тонах. Когда я на неё смотрю, то просто волосы дыбом становятся, и я поскорее припираю её к стенке. А между тем необходимо окончить, и еще хорошо, ибо задаток взят и изменить нельзя.
Васильев продолжал работать над картинами, но кажется не только болезнь, но и условия для живописи в доме, где он снимал квартиру, были против него. В тот же день он писал:
- Я решительно начинаю уважать себя! Хоть я и часто описываю комнату, где работаю, но все-таки это – самый бледный очерк её безобразия. Комната вся – белой штукатурки, так что чуть-чуть верный к природе по силе тон становится необыкновенно черным пятном на картине. И я пишу, не рассчитывая на то, что мне кажется здесь, а должен предугадать, как это будет в Питере, в других комнатах, и еще по соседству с золотыми рамами и картинами. Это такой тяжелый и рискованный труд, что просто беда, и еще вдобавок отнимает страшно много времени, необходимого на то, чтобы писать не сразу массами, а по частям, до того мелким, что картина иногда делается похожей на ситец, который удается привести в общий тон с необычным трудом. Но особенно трудно дать ансамбль и глубину, по невозможности отходить далее двух шагов. Картину же большую писать решительно не возможно далее: свет из окна освещает только один угол картины, тогда как другой покрывается рефлексами, голубым и желтым, из двери, находящейся под прямым углом от окна, из которого цвет падает чистый и совершенно бесцветный.
Картина Васильева «Мокрый луг», посланная на конкурс вызвала самые противоречивые мнения. Многие были просто в недоумении и не знали, как отнестись к этому новому явлению в русской живописи. Сбивало с толку то, что в картине не было уже знакомых и привычных эффектов, штампованных приемов. Если предыдущая картина Васильева «Зима» «породила новых зимних пейзажистов», то этой, по словам Крамского, и «подражать нельзя, нельзя и подозревать о существовании такого пейзажа, не имея дара божьего». Он писал: «На новой дороге всегда мало проезжих, хотя бы она была и кратчайшая, и пройдет немало времени, пока все убедятся, что именно эта дорога уже давно была необходима».
Но все же Васильев получил вторую премию, она была унизительно мала. Деньги ему передали через управляющего Ливадией Лазаревского. И, наверное, тогда в дневнике появилась короткая запись без даты:
- Жаль, что так мало, всего 200 рублей… я ожидал больше.
Дальше идут записи о погоде, но и они у Васильева полны красок, интересных деталей и подробностей.
Три дня погоды здесь стоят скверные, но до этого и теперь снова улыбается настоящее лето! Был день – день приезда царской фамилии, в который на солнце было 25 градусов тепла, и не менее 12-15 градусов в остальные. Дамы щеголяют в одних платьях, а мужчины в сюртуках. Приезжих уже много. Деревья – одни цветут, другие покрываются самым живым изумрудом; трава в пол-аршина; снегу и на горах ни капельки; цветы всех возможных сортов так и лезут из земли. Горы стали теплого розоватого тона и далеко ушли назад со своего прежнего места, заслонившись густой завесой благоухающего весеннего воздуха, наполненного мглой. Небо чудного какого-то голубого тона, которого никто не видал на севере: так он глубок и мягок. Если написать картину, состоящую из одного этого голубого воздуха и гор, без единого облака, и передать это так, как оно в природе, то я уверен, преступный замысел человека, смотрящего на эту картину, полную благодати и бесконечного торжества и чистоты природы, будет отложен и покажется во всей своей безобразной наготе. Я верю, что у человечества, в далеком, конечно, будущем найдутся такие художники, и тогда не скажут, что картины – роскошь развращенного сибарита. Это может показаться или безумным, или совершенным незнанием человека и его стремлений. А впрочем, какое мне до этого дело? Я верю в это, и потому прав, и никакие доводы не заставят меня думать иначе. Думать противное я буду только тогда, когда сам себе покажусь гадок; но тогда я, значит, буду другим человеком, а я отвечаю только за настоящее.
Дальше опять несколько строчек было зачеркнуто и вновь о погоде:
Кстати, я так и не дождался зимы. Всю зиму мама ходила на кухню в платье (кухня на дворе), а Роман в рубашке провел всю зиму тоже во дворе. Только рано утром в Ялте один раз был мороз в 4 градуса, а снег был три раза по два, по три часа. Жители Ялты просто ругают бога, говоря что нынешняя зима отвратительная…
Еще в январе и феврале я разъезжал по морю и охотился за птицами незнакомыми мне.
А Нева, я думаю, еще стоит, и мороз градусов в 100 или, по крайней мере, грязь и вонь по уши.
5 мая.
Начато у меня всего-навсего десять картин, шесть больших и четыре маленьких. Но смотря по тому, как подвигаются картины, я могу, наверное, рассчитывать только на семь картин, что рабочего времени остается не более четырех с половиной месяцев. Стоимость этих семи картин – около 4000 рублей. Долгу у меня, считая сюда и пять месяцев по сто рублей из Общ[ества] поощ[рения] худ[ожников], - 3000р. Следовательно, с проездом и пересылкой картин у меня на руках не останется ничего, кроме совершенной расплаты с долгами. Значит, впереди опять заем у Общ[ества], которое полагает, что Васильев в один год стал (почему-то) капиталистом и помогать ему не след. Дурни! Ведь они забывают, что Васильев живет, стало быть, и жрет и пьет, и штаны ему купить надо. Нет, они думают, что Васильев сидит и только хапает тысячи, да прячет туда их, к черту в подкладку. Лысого беса тут накопишь!
5 мая (вечером).
В Крыму лето уже надоело: жара несносная, зелень густа до безобразия; розы и всякие другие цветы приводят в исступление…
Купанье в море идет с утра до вечера. Вот уже пять дней море – как стекло, даже облака отражает. Третьего дня была сильная гроза с дождем. Уже 12 часов ночи, а стекла у нас в дверях, выходящих на двор, не вставлены. И я, сидя в одной рубашке, обливаюсь потом. Реомюр показывает 20 ½ градусов тепла. Груши, персики, абрикосы, черешни наливаются. Через полторы недели поспеет черешня. Уже почти все квартиры заняты. Приезжих тьма. На бульваре музыка.
Но природа… природа! Что за бархат и глубина тонов! Я просто могу заболеть: такая обида берет, что ничего подобного не написал. Но постараюсь пересилить себя и кончить, что начал: иначе - беда непоправимая.
22 мая.
На сем крохотном листочке
Напишу четыре строчки…
Во-первых, мочи нет! Так трескать черешни! – Ведь это безобразие! Пузо – как барабан… Это мы кажинный день, с 14 мая, до такого состояния доходим – все для поправления здоровья (?).
Какие, я скажу, тут прелести! Словом, благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. А море-то, море! Тихо катятся перламутровые, блестящие волны; белая, как снег, чайка сидит и охорашивается; глубоко, глубоко на горизонте потонули облака в солнечной пыли. Сядешь на катер и поплывешь туда, в зеленую, чарующую глубину, полную прохлады и какой-то задумчивости; наклонишься через борт и полощешься руками в изумрудной влаге – далеко расходятся круги, игриво изменяя отражение облаков. Чудо, как хорошо! И вдруг среди этого спокойствия и наслаждения, как-то само собой, ярко выступит дугой загнувшийся песчаный берег с одной стороны, песчаный берег с другой. Тихо, не шелохнет; тянется длинная вереница бурлаков; туго натянулась бичева, на конце которой столпились мощные люди, с мощными руками и грудью. Идут они, идут от самой Астрахани до Твери, мерно раскачиваясь то вправо, то влево. Вот на горизонте стеной встают облака, одно другого выше. Вот уже и солнышка нету, и все притупилось, и затихло; только по гладкому зеркалу воды, темному, как вороненая сталь, пробежал ветер и, зацепившись, провел маленькие бороздки, блестящие, как серебро… Господи, да что же это? Это – черешни! Что хуже есть черешни пудами, или писать с отягченным желудком?
Одолевают меня теперь мухи, жара и любители изящных искусств. Был даже на днях со свитой г. Айвазовский и сообщил, между другими хорошими советами, рецепт краскам, с помощью коих наилучшим манером можно изобразить Черное море; впрочем, всем без исключения остался доволен, свита тоже, хотя она, свита, предпочитает всему обед или, по крайней мере, закуску.
24 июня.
Весьма для меня тяжко, - что я не умею к концу сентября кончить всех картин, а это я поставил себе непременной задачей.
В понедельник, т.е. 26 июня, выезжаю в Севастополь на восемь – десять дней, чтобы поездить, порисовать с натуры, поохотиться – словом, освежиться от постоянной беспрерывной работы. Это, наконец, совершенно необходимо, потому, что я потерял энергию и до тошноты пригляделся к картинам, так что работать дальше – дико.
Южный берег почти целый месяц подряд поливает дождь, и грозы по ночам сделались необходимым атрибутом. Вот и теперь, когда я пишу это, долетают с моря далекие, но продолжительные раскаты, и молнии почти без перерыва, и притом такие молнии, что только удивляешься, откуда берется такой страшный запас электричества. Несколько дней назад в Байдарской долине был такой ливень, с которым, я думаю, не поспорят и тропические. Этот ливень продолжался только восемь минут, но и этого было совершенно достаточно, чтобы смыть нависшие над дорогой севастопольские скалы, затопить луга и снести все стога сена, перетопить несколько сот баранов, которых заливало (так густо шел дождь), снести на реках мосты (эти речки обыкновенно не более полутора, двух аршин ширины) и вырвать с корнем и унести деревья. При этом на дороге, следовательно, на гладком месте, воды в 8 минут набралось до трех четвертей. Это я слышал сегодня от очевидца, который едва успел спастись и спасти детей через окно, около которого стояло большое старое дерево. Но этот ливень лучше всего характеризует то, что утки и гуси тоже тонули. В Ялте, благодаря бога, далеко до этого, хотя по улице каждый дождь бежит целый поток, после которого надолго остается канава. Водопад же Учан-Су совершенно изменил свой резервуар и совершенно бесследно уничтожил около этого резервуара дорогу. Я на днях ездил туда с Филипповым.
Только базар стал живописней, благодаря страшным грудам зелени и фруктам. Приезжих в этом году мало: дороговизна доходящая до помешательства, отвадит всех сюда заглядывать.
20 июля.
Вернулся сейчас с бульвара, где гремела, именно гремела, военная музыка (удивительно меткое название), толкались немилосердно чающие движения воды больные и таращили глаза и уши туземцы. Ялту удивительно обрисовывают обрывки разговоров, долетающих до слуха. Приезжие обыкновенно ведут нескончаемые разговоры о качке, о следствии её, сопровождая все самыми выразительными жестами и часто повторяющимися: «ужас, ужас!» Туземцы же во всех темных уголках составляют проекты наискорейшего и притом неизбежного ободрания приезжих, полных еще впечатлений морской болезни. Бедные больные. Дорого обходятся воздух, вода и горы. Господь бог, творя Крым, вероятно, и не подозревал, что за житье в нем будут драть так немилосердно; притом дерут именно те, которые не только не выдумали этого климата, а наоборот, употребляют все средства испортить его, по крайней мере, около своих жилищ, и надо им отдать справедливость – выказывают в этом случае необыкновенные, неслыханные способности. Результатом таких занятий являются два случая смертности от холеры. Холера в Ялте!!! Боже мой, да ведь после этого, что же в другом месте?
Боткин говорит, что здоровье мое исправится совершенно. От последнего воспаления легких у меня осталась только незначительная боль в груди и правом боку по утрам, слабый кашель с мокротой – и только. Для излечение этого Боткин прописал мне мазь, порошки и воды Обер-Зельц-Брунер.
Про Боткина могу сказать, что не ожидал такого внимания, даже от него; ни одной минуты не дожидаюсь, хотя попасть к нему здесь вряд ли не труднее, чем в Петербурге, - такая пропасть больных. Потом – память изумительная, так что ничего не приходится повторять прежнего… Он смотрит таким всезнающим, относительно грудных болезней, что невольно ему веришь. Словом, все, что касается здоровья обстоит благополучно. Нельзя того же сказать относительно денежных дел…
21 июля (вечером).
Оканчиваю картину Владимиру [Александровичу], который 25-го сего месяца прибудет в Ялту с государем. Я таки одолел себя и без особых изменений довел картину благополучно до конца. Сказать по чистой совести, картина вышла хороша, если взять в расчет все условия, а в особенности совершенную новизну сюжета: горы и море.
Были сегодня у меня Боткин и Постников, единственные изображения художников в Ялте (я Филиппову, за его скромность относительно критики, не доверяю), и очень расхваливали эту картину, притом хвалили от души, что я уловил-таки. А что я уловил? Как глупо пишу! Однако – без поправок! За сие мое произведение думаю лупнуть с в.к. Владимира 1000 карбованцев, что будет совсем не дорого, если не по картине, то по времени, которое я на неё затратил… Даже совестно становится, когда пишешь такие гадости…
22 июля, суббота.
Получил сегодня письмо от Третьякова. Спрашивает о здоровье и о том, двигаются ли картины. Просит выслать ему мерки картин и описать сюжеты, обещая приехать на короткое время в Крым в конце августа, тогда как прежде думал попасть сюда в мае.
23-го, воскресенье.
Воскресенье у меня отличается от будней тем только, что я в эти дни успеваю как-то больше работать, чем обыкновенно, и еще тем, что в Ялте по воскресеньям я посещаю иногда здешний клуб, с членами которого я знаком. Упаси боже всякого крещенного человека быть знакомым с членами ялтинского клуба! Если вы умны, они вас возненавидят, как человека опасного; если вы глупы, они постараются вас обработать; если вы бедны… впрочем, это самое лучшее, потому что они вас не примут. Можно было бы еще кое-что сказать, да не стоит.
Вот я сейчас вернулся с бульвара. Бульвар наш составляет не место, обсаженное деревьями, а приезжие. Это может показаться странным, а, однако, это так. Скука неизобразимая! Народу куча, но какого народу? Тут и грек, и армянин, и жид, и русский, и турок, и еще не знаю кто. Для какого черта они собрались сюда? Собрались они сюда для ограбления, как собираются в тихий залив акулы, прочуявшие хороший ход мелкой рыбы, ободрание которой, по её беззащитности, ничего не представляет трудного, даже совсем напротив: сами же обдираемые говорят спасибо. Татары, армяне, особенно греки изображают собой акул; беззащитную рыбу – приезжие, больные по преимуществу. Уши, не привыкшие к необыкновенной безсодержательности и мутности разговора всех здесь сущих, вянут моментально…
- «Ах, ах, как меня укачивает!» (тенор). – «А вот меня так нисколько» (бас). – «Вы боитесь качки?» - «О, ужасно!» - «Бедные матросы!» - «Почему же бедные?» - «Да как же? Ведь это ужасное страдание». – «Да их не укачивает, говорят». – «Ах, полноте, не верьте, какие сказки!»
И все в этом роде, все в этом роде. Положим, качка - ощущение неприятное: сам это знаю. Но, помилуйте, зачем же уж ничего, кроме качки, в разговоре не допускать. Зачем же истощать себя, крича поминутно: «ужас», «неслыханное мучение», «ужасно» и проч., и проч.? Ведь, ей-ей, такой разговор хуже качки; вот разве только, что после него не рвет, да и это, я думаю только от того, что привыкли. Словом, гулянье, наш бульвар, - гулянье превеселое: ходят греки, турки и проч., ходят больные и расслабленные, и все друг на друга чертом посматривают. Военная музыка отдирает какие-то светом неслыханные увертюры; разные господа с большим успехом уничтожают «цимлянское с гвоздем» и на всех проходящих дам посматривают самыми понятными глазами, а на бедных статских как взглянут, так вот, так и говорит все – и эполеты, и шпоры, и сабли разные, - так вот и выговаривают: «Ведь мне тебя слопать ничего не стоит. Вот только что не хочу». Для меня только одно совершенно непонятно: кой черт сталкивает их всех на бульвар, когда они друг друга терпеть не могут и готовы сейчас же заложить кого угодно без всякой надобности в первый попавшийся кабак? Я никак этого не пойму.
Ей богу, я просто позабыл, как это у нас в Петербурге делается, неужто все то же?
Да – с, вот она Ялта.
Живем мы все в том же доме, в той же квартире. Я кое-как устроил комнату, т.е. повесил на все двери и окна гардины, чтобы сделать свет удобным, насколько возможно, и хотя явилось новое неудобство – темнота, но все-таки стало как будто лучше. Денег проживается еще больше чем зимою, а толк тот же.
Бедная моя мама скучает ужасно; я еще хоть какое-нибудь разнообразие нахожу в работе, а ведь ей, бедной, кроме приготовления обедов, разных починок, и отдохнуть не на чем. Только мать способна приносить себя на такие пожертвования. Она очень похудела за последнее время и чувствует себя не совсем хорошо.
Фу, черт побери, как жарко! А еще ночь! Я работаю в одном белье, а пот все-таки капает с носу на палитру, что меня зело смущает. Молоко киснет, а это для меня просто беда, ибо воды пью я с ним. Никак не ухитрюсь рано вставать; все выходит то в 10, то в 11 часов. Завтра приедет царь, а, а с ними и Владимир [Александрович]. Следовательно, надо навалиться на картину, да и деньги нужны.
…Делать мне нечего, в особенности вечером: ничего не придумаю; уже хотел сапожному искусству обучаться, даже еще хуже – в музыку было ударился, да хорошо, что хозяйка ради жильцов, попросила оставить. Говорит: «Просто квартиры никто не нанимает, очень уж много музыкантов», а музыкант один это я, и уж право, не знаю, отчего так кажется, как будто играет несколько человек, и притом на расстроенных инструментах. А тут еще и мамаша говорит: «Оставь спать не дает». Ну, а днем играть, так уж просто самого себя совестно слушать, да притом же и картины, так что я остался, как рак на мели; думаю, впрочем, о разных важных материях, самым неважным образом.
11 августа.
Окончил и сдал картину Владимиру [Александровичу]; очень остался доволен, заказал еще четыре. Как разлетаются все мои планы! Это просто непостижимо. Теперь я должен буду работать без увлечения, без желания даже, так как картины эти – скорее фрески, потому что они назначаются для украшения ширм, которые великий князь хочет, кажется, подарить кому-то накануне рождества, т.е. 24 декабря, к которому я и должен их окончить. Я, сколько ни старался, не мог отказаться от этой работы, потому что не имел ничего сказать в свое оправдание, а лгать не хотелось. Теперь я с грустью смотрю на начатые картины, видя всю невозможность их окончить.
…Как мне трудно жить в этой проклятой Ялте! Ко всем её прелестям присоединилась еще и холера, да такая, что из каких-нибудь двух тысяч человек заболело до двухсот, а умерло тридцать! Ведь это ужасно! И без того город населяют полумертвецы, приезжающие сюда для катастрофы, а тут еще и то, что малое число здоровых, которое имеется, заболевает проклятой холерой. У нас в дому уже было три случая заболевания, и только благодаря быстрому пособию окончились счастливо. Не будь в Ялте моря, умерли бы все: так велико количество нечистот и безобразия жителей, уничтожающих страшное количество незрелых плодов и других гнилых или нездоровых продуктов. Еще большое счастье – такое лето, как нынче, и было бы совсем другое, если бы доходило до 50 градусов, как, например, в прошлое лето. Хотел уехать с мамой и Романом недели на две в Севастополь, но нет столько денег и времени.
22 сентября.
Вчера был у великого князя Владимира, который мне передал, что императрица желает приобрести у меня какую-нибудь картину, буде есть у меня оконченные. Весьма сожалею, что ничего порядочного по величине и содержанию не имеется, кроме одной маленькой, которую я и оканчиваю для неё.
Осень у нас начинается, а с нею какое-то томительное одиночество и хандра. Я уже очень скоро расту, и хандра теперешняя нисколько не похожа на хандру, которая была раньше: это что-то такое зрелое, что уже с боязнью начинаешь думать о её долгом продолжении, может быть бесконечности. Ах, зачем я всю эту чепуху пишу? Просто самого злость берет!
Фу, какое глупое состояние! Хочется писать, а ничего не пишется: не то какая-то дремота, не то усталость. Должно быть от пошлейшей перспективы, которая развертывается перед умственным взором.
Да, кстати, я переехал на другую квартиру, поссорившись, - нет, не поссорившись, это уж слишком, - а просто переехал на другую квартиру потому, что старая подлая до крайности и жестоко надокла; новая же и больше, и чище, и удобней, даже для работы, о чем я, впрочем мало забочусь! Дороже только вдвое, да делать нечего.
На конкурс написать не успею. Я начинаю спокойно смотреть, привыкать к этому продолжительному отсутствию из Питера. Так долго здесь живу, так медленно идет починка организма, так ожесточены против меня какие-то неизвестные силы, что нет ни какой охоты брать шаг за шагом, приступом, свою свободу. Да и к чему?.. это не упадок духа, бесхарактерность или что-нибудь в этом роде: нет, характера и силы у меня хватит навсегда. Это более всего похоже на разочарование умственное, которое боишься проверить на практике, не ожидая от этого ничего хорошего. Странно, что я до сих пор точно так же мягок и добр с людьми, как и прежде, когда никакие мысли, никакие черные подозрения не гнездились во мне. Может быть, это будет исходной точкой моих – как бы это сказать?.. страданий; это уже очень как-то глупо; ну да все равно. Эх, много на свете болезней, много нужно докторов и времени, чтобы унять сплошные стоны, необъятные страдания! Как скверно еще и то, что я превращаюсь в какой-то аппарат, в котором кроме страданий ничего не может отражаться. Может быть, я действительно только не способен видеть светлых картин; может быть, они и есть, да уже по устройству моему проходят незамеченными, не отражаются. Пейзажисты бывают двух родов: первый род пейзажистов происходит из бездарности, которая не в состоянии охватить человека, как большую задачу, а потому бросается на более легкое, как им кажется, - на камни, древеса, горы и так далее. Другой род – люди, ищущие гармонии, чистоты, святости, невольно становятся поклонниками природы, не находя ничего такого полного в человеке, этом венце творения. Почему имя Рафаэля знает каждый не дикий человек? Потому, что он писал человека? Конечно, не потому: человека писали гораздо лучше его. Рафаэля знают потому, что он написал человека, каким он должен быть и как он далек от чистоты, святости, от всего, что он должен носить в себе, как венец творения. С первого раза может показаться, что между вышеприведенными двумя мыслями нет никакой связи, но это только может показаться. А впрочем, связывать их явными нитями нет никакой охоты и нужды.
Выше Рафаэля стать нельзя, потому что нужно повторить истину, найденную и выраженную уже один раз, а это никого не возвышает, но ставит на один уровень только, конечно, в том случае, если будет доказано, что мысль эта не украдена, а самобытно пришла в голову. (Но тут я или проврался, или просто лень было обдумать, а главное переписать, чего я никогда не делаю).
20 октября.
Полная неопределенность моих отношений к Общ[еству] поощ[рения], и наоборот. Я – это лотерейный билет, по которому общество скорее проиграть может, чем выиграть, и вот почему: если я – билет пустой, то Общество проиграет и материальную и нравственную сторону в этом деле; если же я билет с номером, то общество выиграет только нравственную сторону. (Нужна ли ему эта нравственная сторона?)
…Мне нужно знать наверное, а не жить день за днем, час за часом. Если я буду так жить и так думать, то через несколько времени окажется, что я заботился о дровах, о подметках, о заплатках на штаны, о том, где продается подешевле русский холст, или нельзя ли у кого-либо обтрепанных старых кистей разжиться, - и окажется, в конце концов, что я сам – обтрепанная кисть, которую выкинуть надо, выкинуть без сожаления.
Это все - рассуждения на веселую тему, т.е. мне очень хочется поддержки от людей. …Для того, чтобы написать самое необходимое, не хватит целых дней. О чем же писать? Какой мысли, или слову, или желанию отдать предпочтение? Какое из них так богато, так многозначительно, что дает облегчение, перейдя на бумагу? – Нет их! Общий груз так велик, что не ощутить отсутствия десятков мыслей, тысяч слов! (Вот, точно из Гамлета). Вот вертится в голове какая-то мысль… О чем это? Да, ловлю, ловлю… О том, что на дружбу и любовь действует разлука… Вот, опять туман, и такие отрывки этой мысли из него выглядывают, что невозможно составить понятие о целом. Ну, да это не беда: придет, когда нужно вся целиком.
У меня так голова устроена! Впрочем, я не знаю устройства других голов, а потому мне моя может казаться оригинальною. Попытаюсь описать устройство её. Я, например, не могу читать долго и толково про себя, или вслух, потому что мозг ни на минуту не останавливает своей работы и во время чтения отделяет только половину себя, для слушания, другая же половина постоянно работает самостоятельно. Но и этого мало: вдруг эта самостоятельная половина хватает ни с того, ни с другого, половину слушающую и заставляет её работать вместе с собой над чем-нибудь таким, что ничего общего с книгой не имеет. (Глаза еще ничего не знают и прилежно ходят по буквам, но так страшно, что мне всегда напоминают мух, одуревших от мышьяку и шатающихся по тому же месту, где лежит эта злосчастная бумага). Но всегда есть несколько минут борьбы, прежде чем пассивная сторона уступает, а уступает всегда она.
22 октября.
Два дня не мог продолжать. Я теперь нахожусь в отчаянном положении человека, который обязался к известному времени сделать обещанное и не может, т.е., лучше видеть, взял по необходимости заказ от в.к. Владимира этот заказ заключается в четырех картинах-панно для ширм, которые он, в.к., желает подарить государыне.
24 декабря.
Взял я этот заказ 7 еще августа; 9 числа того же месяца Владимир уехал из Крыма. Я начал компоновать эти четыре картины. Оказалось, что необходимо сделать этюды. Я обратился к извозчикам, желая нанять кого-нибудь на месяц, что было необходимо по дальности назначенных мною для этюдов мест и трудности дорог. Меня совершенно ошеломила цена: эти уроды, извозчики, не соглашались дешевле 200 и 250 руб. в месяц. Не имея никакого желания тратить такие деньги на этюды (я и так очень дешево взял за картины, а именно 2000 руб.), я решил подождать приезда в.к. в Крым 10 сентября, чтобы поставить ему это на вид и вымаклачить экипаж, или прибавить цену на картины. По приезде его, я сейчас же отправился к нему и сказал, в чем дело. Он отговаривался тем, что экипажей совсем нет лишних,.. но при конце все-таки сказал: «Я постараюсь это устроить, а пока передаю вам желание государыни, которая просила меня узнать: нет ли у Вас чего-нибудь или готового уже, или такого, что можно окончить к 5 октября: государыня желает подарить Марии Александровне (дочери) картину или картинку». Я сказал, что есть одна маленькая, которую я успею сделать к 5 числу. И так, в ожидании экипажа, я оканчивал картинку императрице; эта картинка предназначалась Григоровичу, но, должно быть не судьба.
Вот с 7 августа, в которое я последний раз держал в руках кисти, чем я занимаюсь! Сегодня я с ужасом увидел, что эту картину (государыне) очень трудно успеть написать, хотя нечего и допускать вопроса о невозможности; эту я должен написать, хотя бы целый год не было ни одного светлого дня, хотя бы пришлось писать двадцать семь часов в сутки. Он, в.к., уехал, кажется, 12 сентября, а у нас сегодня 22 октября, и у меня еще не начата картинка! С 12 сентября я начал этюд, и до сих пор не могу хоть сколько-нибудь порядочно его подготовить: то облако, то туман, то дождь, то ветер! Я не говорю уже о том, что писать приходится не более трех четвертей часа, потому что приходится ездить до двенадцати верст на гору и платить по 10, 15, редко по 8 рублей за экипаж, который взбирается туда три часа, четыре там отдыхаешь (а я – платил), да два часа едет назад. Я трачу девять часов для того, чтобы работать сорок пять минут!!! Ну как же после всего этого мне посылать еще и Григоровичу? Ведь нужно быть для этого чертом или Крамским, а я ни на того, ни на другого не имею счастья походить.
Здесь я хочу прервать повествование художника и обратить внимание читателя, что я не только пробегаю глазами этот текст, а еще и переписываю его. Меня успокаивает и окрыляет мысль, что после Васильева я делаю это первый, И каждое слово его для меня весомо и зримо. Рад бы сократить, опустить «лишние» подробности, да не могу. Ведь, кажется, все здесь важно, и проливает свет не только на его внутренний мир, его мысли, отношение к природе и окружающим, но самое главное - на его работу, его творчество.
Я пытаюсь представить эту дорогу в горы, Васильева с этюдником и холстами, в трясущейся по каменистой дороге повозке. Или сидящего за столом, в том, его последнем, доме. Вот он отложил в сторону тетрадь и задумчиво смотрит в окно, опустошенный, измученный, разбитый… Он долго смотрит в окно и мысли его где-то далеко. Он снова открывает тетрадь и делает еще одну запись:
«Поздно, друг мой, поздно, и пора мне спать ложиться. Сейчас был у окна и долго смотрел! Какая чудная ночь. Тепло и прозрачно кругом, как на нашем родном севере не бывает. Мерно бьют о берег волны, рассыпающиеся электрическими огнями по берегу, и «не пылит дорога», редко, редко на горе мелькнет огонек чабана, странствующего со своей отарой по осыпавшемуся листу нагорных буков, что черной мантией одевают высокие уступы гор… Все звуки умерли, только море знать не хочет отдыха…
Пойдемте, погулять!»
Боже мой, 27 октября.
Вчера начал картину великому князю: преглупейшая и преказеннейшая штука будет. Ну да что же делать! Даю слово не брать больше заказов ни от кого.
Болезнь и рассудок заставляют меня остаться в Крыму до сентября или августа 1873 года. Я дал слово окончить здесь все, что можно, или все, что начато. Это совершенно необходимо для моей будущности, для моей свободы.
Он и оставался в Ялте до сентября 1873 года. Слова эти были пророческими. Ему оставалось жить в Ялте… Ему оставалось жить… до сентября 1873 года.
В этот день он еще запишет:
«Как дорого мне стоит все, что я приобрел. Как дорого мне будет стоить каждая картина, которую я напишу здесь! Многим кажется, что мне моя жизнь удается так легко и скоро, что на удивление. Как это можно! Я за все, за все плачу дорого».
12 ноября.
Погода подурнела, откуда ни взялись серые, скучные облака, заморосил дождь, от чего плачут оконные стекла, плачут так тоскливо, что мочи нет. Как усиливает такое плаксивое состояние погоды плаксивое состояние духа.
Я стал необыкновенно раздражителен; это даже мама замечает. Я теперь очень иду к Ялте и её смыслу; думаю, еще больше подходил бы к Калсбаду или к чему-нибудь в этом роде… Скоро, очень скоро, меня никто не станет выносить; и это будет нисколько не обидно, не несправедливо…
Скверные мысли и скверные предчувствия!..
Если бы кто-нибудь случайно навестили меня и посмотрел, что я делаю.
Совестно мне, крайне совестно. Совестно мне не за то, что я пишу такую мерзость и совестно, зачем не устроил так, чтобы не писать её.
Надеюсь на господа бога и снисходительность людей, которые не прогонят меня сквозь строй за такие поистине гениальные произведения! Тут еще не достает булочника для того, чтобы это произведение обладало всеми достоинствами! Эта несчастная картина портит мне все дни, часы и минуты; аппетит с первого часа исчез совершенно, постоянные головные боли и безысходное беспокойство! Для этой картины я потерял два месяца хождения по дворцам, деньги и еще месяц для написания её самой. Еще можно было бы взять выработкой деталей, правдой, но это совершенно невозможно за недостатком времени.
Я с каждым годом убеждаюсь в справедливости однажды мною сказанного: «Мое развитие страшно останавливает недостаток совершенной независимости в средствах». Если бы не это и еще многое, я, уверен, давно был бы далеко впереди; было бы несравненно больше испачкано халатов, несравненно больше истреблено красок и мотивов, но зато все, что я позволял бы себе отдать на суд публики, носило бы в себе действительные достоинства; благодаря этому и репутация моя не страдала бы от таких произведений, какие я должен буду выпустить. До сих пор я еще не принялся ни разу написать море. То, которое я написал в картине в.к., страшно безграмотно… Я очень продвинулся в этом отношении, даже больше чем могу выразить технически.
23 ноября
Я переживаю самое неприятное время. Какие-то смутные намеки в письмах всех знакомых…
Как меня допекают – это удивительно. Всякий, кому от меня весточки нет, не затрудняется и ставит меня во всякие нравящиеся положения. Благодаря тому, что меня судьба запихала в Ялту, и лень узнать от меня самого, что я делаю, всякий паршивец подозревает меня во всяческих злоумышлениях. О, господи! Что я им сделал? Ведь это удивительно… Горькое, горькое раздумье берет. Неужели никогда отдыха? Смешно и больно взирать на мир божий! Всюду трибуны; всюду с одушевленным взором, с раздутой истиной грудью воздымаются ораторы, великие люди, друзья человечества; всюду ликование; просветленные толпы волнами двинутся от одного оратора к другому, от паровых машин к исполинским орудиям, от плугов к митральезам… Хором гремит из одного конца света в другой: «Да здравствует девятнадцатый век». Поёт этот гимн вчера раздавленный француз, поет этот гимн вчера раздавленный целый народ пруссак, и, громче всех, с сияющей радостью лицом, поёт его страшный призрак «коммуны», стоящий отдельно от всех… Это – апофеоз…
Вот опять деньги не высланы, а ещё 14 числа, по крайней мере, должен был получить. Денег поэтому – ни гроша, а долг страшный.
16 декабря.
Сейчас вернулся с берега. Крым все-таки – удивительное место! Сегодня 16 декабря, и несмотря на это, на солнце в два часа дня было 17 градусов тепла. Впрочем, не все здесь масленица, и два дня тому назад лежал в Ялте и на горах снег, и было 2 градуса морозу, правда, ночью. Эти два дня было холодно.
И так, мы сейчас вернулись с прогулки. Небо – голубое-голубое, и солнце, задевая лицо, заставляет ощущать сильную теплоту. Волны колоссальные, и пена, разбиваясь у берега, покрывает его на далекое пространство густым дымом, который так чудно серебрится на солнце, что я просто готов на стенку влезть. Картина, в самом деле, так очаровательна, что я рву на себе волосы – буквально, - не имея возможности сейчас бросить все дурацкие заказы и приняться писать эти волны. О горе, горе! Вечно связан, вечно чему-нибудь подчиняешься.. Не могу утерпеть и не нарисовать сегодняшнего мотива.
Свет падает сзади и транспарантом светит пена. Легкость и блеск воды поразительны. На горе едва заметны детали и глубоко сидят за блеском, которым сверху все пролессировано. Этот мотив я написал бы хорошо. А тут изволите мазать отвратительные заказы – экая мука!..
Сколько я потерял благодаря этим заказам!!! Я с 7 августа написал только одну эту гнусную картину, когда мог бы написать три, и притом хороших.
Я боюсь потерять силу воли, которая меня держит в Ялте. Я боюсь, что в один прекрасный день не в состоянии буду видеть этой помойной ямы и брошусь, очертя голову, вон из неё.
Я очень боюсь, что доктора так упорно советуют здесь оставаться потому, что все-таки одной дойной коровой больше. Это меня ужасно пугает. Притом все точно спелись насчет этого пункта, т.е. насчет отъезда отсюда больных. Летом еще они имеют на это полное основание, но зимой отсюда нужно гнать больных – с голоду умрут. За прошлый месяц мы выплатили за один стол, т.е. за обеды в три блюда, 81 руб.
Да ведь что это за стол! Ешь только от того, что с голоду умирать еще хуже. Два года здесь я ни разу почти не съел чего-нибудь без гримас. Вот и еще причина, заставляющая серьезно позаботиться о деньгах. В Петербурге буду целые дни ходить из трактира в трактир и с утра до вечера буду обедать и обедать.
18 декабря.
Я ужасно мучаюсь, глядя на свои картины. До какой степени они мне не нравятся, что я просто в ужас прихожу. Крайне нуждаюсь в советах и суде людей, понимающих природу, я сзываю к себе мысленно всех компетентных судей, мне знакомых. Но – увы! – мысленно звать ведь чепуха! Мои судьи здесь главные – Лазаревский и Клеопин. Но первый слишком строг и положительно не распространяется о достоинствах картины, если он их и замечает, а нападает только на недостатки. Клеопин, радуясь, что он сам художник, чаще всего самого себя услаждает, находя самые необыкновенные вещи. Например: «Как Ваши тона на мои похожи! Это удивительно!», или: «Ах, уж эта земля в тени – самое феральное место». Или еще так: «Чего Вы тут бьетесь? Совершенно окончено». На мои замечания о том, что и как еще можно сделать, обыкновенно говорит: «Это – только иллюзии, и решительно ничего тут сделать нельзя!» Это последнее меня особенно бесит. Ведь я ясно вижу, что он действительно не смыслит, что можно сделать с картиной; но зачем же уверять меня в глаза, что и я не могу сделать, и даже не вижу, что сделать. Вот судьи мои! Прибавить к этому мою собственную строгость к себе – строгость, выходящую из границ… Какое для меня мучение работать здесь..
Глаза по вечерам что-то болеть стали… Я уже убедился, что моя болезнь – штука весьма серьезная и очень не скоро развяжет мне руки. В настоящее время кашель сильнейший, и ночью поэтому не совсем хорошо сплю; горло же в том же положении, как и в начале года. Боткин относительно горла сказал, что мне «еще долго придется с ним помучиться».
В Ялте я сижу не по своей воле и не потому, что она мне нравится; я бы давно удрал отсюда, но здоровье положительно не позволяет без серьезной опасности ехать раньше конца мая или начала апреля.
22 декабря.
Завтра, т.е. в субботу, 23 – го, приглашен на елку, устраиваемую м-ме Лазаревской для детской ливадийской школы. Елок, вероятно, больше не будет, ибо больше никуда не приглашен. От этих ёлок отказаться было невозможно совершенно, а потому придется проскучать, и, вероятно, проскучать за карточным столом, ибо от девиц и юношей до тридцати лет включительно имею сильную антипатию, родившуюся, видимо, из моей зрелости и прочих достоинств. Впрочем, еще будет спектакль у Трубецких, и придется аплодировать Олимпу, который будет изображен некоторыми княжнами и князьями. Отчего это заранее знаешь, что будет скучно, тяжело и пр.? Княгиня Трубецкая – ведь очень добрая и очень хорошая вообще женщина; муж её – тоже, насколько я мог узнать, человек ничего, а все-таки скучно. Впрочем, мне скучно и дома, и везде… А ведь было время, когда человек, одолеваемый скукой, пусточной, как Печорин, например, многих поражал, всем без исключения нравился. Только бы ново было – понравится наверное, потому – мода. Какая бы глупая мода ни была, все равно её участь – произвести эффект до другой моды, еще более глупой может быть.
Я разучиваюсь говорить даже; писать же я никогда не умел. Вот что Ялта-то значит!
Половина второго ночи… всё спит, только где-то далеко-далеко собака лает. Послезавтра воскресенье: разоденется народ во все свои пестрые лоскутки, еще больше переполнятся ялтинские и другие кабаки; много будет попито и побито за эти дни всего, что держит в себе хмель, и всего, на чем могут остаться знаки. Потеряет человек последние жалкие способности и последние гроши перейдут в руки разных Мошек, Абрашек и Иосек. Может я это с горечью какой-нибудь? Ничуть! Так это давно ведется и так пригляделось, что уже не делает того первого впечатления горя и ужаса. Противно только ждать мерзких картин, непременно следующих за праздником.
А природа кругом – вечно прекрасна, вечно юная и вечно – холодная. Впрочем, не всегда она держит за собою это последнее качество; я помню моменты, глубоко врезавшиеся в меня, когда я весь превращался в молитву, в восторг и в какие-то тихое, отрадное чувство примирения со всеми на свете. Я ни от кого и ни от чего не получал такого святого чувства, такого полного удовлетворения, как от «холодной» природы. Да. Это – правда, и да будет она благословенна, хотя люди и говорят, что ей ни дурного, ни хорошего приписать нельзя.
23 декабря, суббота.
Вот и еще день прошел… Сейчас вернулся с елки Трубецких. В карты не играл, а потому и деньги в кармане целы, и курил меньше, поневоле находясь в кругу мадемуазелей и месье молодых годов. Не могу сказать, чтобы особенно веселился, просто чувствовал себя как-то ровно, именно ровно. Музыку, впрочем, слушал с удовольствием, хотя музыка эта была гостиная, то есть играли на пианино все понемногу. Хорошо очень играет м-ме Лазаревская. Мотивы все, конечно, на отбор знаменитейшие: Мендельсон, Шопен, Шуберт, Гуно и проч., и проч. Очень досадно, что в нашем кругу так мало играющих.
День сегодня серый, хотя и холодный. Чудные виды из окон и с балкона у Трубецких! Как досадно, что из моих окон прежде всего расстилается грязная, вонючая Ялта, за которой горы видно только до половины.
Вот странно! Ничего сегодня писать не могу. Как-то все не пишется и не думается. Это – от того, что сел писать без всякой потребности; а потому и кончу.
25 декабря.
А? Каков! 25 число декабря 1872 года, после которого также появится 25 декабря 1873 года – и только; ничего значит удивительного в настоящем 25-м не заключается.
С сегодняшнего дня запираюсь и сижу дома безвыездно. Это благое намерение принял вследствие необычайно усилившегося кашля и головных болей; да и сон, благодаря тому и другому, никуда не годится. И так, сижу дома, хоть бы меня за глаза сжарили те, которым я не отказал визитов.
Ведь мне, наверное, завидуют. Вот, думают, окружен он там князьями да графами, кроме французского языка ничего не слышит, за обедом все подаются трюфели, да зефиры этакие, да и не знаю что… Да, вот он счастливец-то! Да, счастливец, это точно; еще бы немножко и совсем бы про… счастлив. Ну, бог с ними, пущай… Французские разговоры, дамы этакие, трюфели, ну и пр. Что же это, в самом деле: так я тут и погиб? Да ведь это, черт побери, никуда не годится! Ведь это, наконец, мочи нет.
Я должно быть, сегодня болен: такая дичь человеку здоровому в голову не пойдет. В самом деле, я болен: все больше и больше чепухи. Вчера стихи вечером поздно писал: ничего не вышло. Точно могло выйти – вот дурак! Думал, что выйдет, ха, ха, ха!
***
Ялта, Ялта, Ялта, Ялта, и так далее до бесконечности… Ясные признаки умопомешательства, или по крайней мере, mania transitoria.
1873г.
4 января.
Вот и 73-й нагрянул! Мы вечером поминали всех и предполагали, кто и у кого собирался и как встречали Новый год… Скучно делать такие предположения, не имея возможности встретить также где-нибудь это необыкновенное происшествие. Зачем это русские позднее других цивилизованных народов встречают Новый год? Есть анекдот о том, как один господин за границей где-то начал уверять, что на следующий день будет света преставление, на что ему отвечали: «Поезжайте в Россию; там еще тринадцать дней будете жить».
Получил от Григоровича цыдулку, в которой он, между прочим сообщает, что конкурс отложен до 1 марта. Этакое соблазнительное известие! Нешто рискнуть! Времени есть с месяц; картина одна подвинута на половину, жаль только, что мотив не задушевный. Может что-нибудь и выйдет. Не равен только для меня конкурс (впрочем, он всегда был для меня труднее, чем для других), не равен тем, что я пописать могу с месяц, а Шишкин-то уже шестой месяц протирает глаза своей картине. Да и размер – также штука важная. Небось, там все саженные этакие чудовища наставлены будут, так что нам, грешным, с своими аршинчиками и не лезть лучше.
Начну, куда кривая не выведет! Сюжет из Татарии, даже – да простит мне господь – с волами и фигурами… брррр… брррр; да и пребольшие бестии, вышли, ей-ей, не по моему росту.
Этот подмалевок, который я предназначаю для конкурса, целые дни притягивает мои глаза к себе. Вечер, уже поздно, а самого так поминутно и поворачивает какая-то сила к картине. Ведь уж знаю её до последней точки; чего бы, кажется, глядеть? Так ведь нет, тянет; как будто вдруг наступит момент какого-то нравственного света, и я ясно увижу картину, сразу познаю, хороша она или нет. Мое положение скверно тем, что мучишься постоянно: хороша картина или дурна, смотря по этому художник счастлив или угрюм; я же – постоянно несчастный человек, во всех случаях несчастный, и если бы писал гениальную вещь, лично мне она не принесла бы минуты спокойствия или довольства собой. Человек лишенный этого, лишенный возможности сравнения, есть человек вполне заслуживающий сострадания. Этакой человек в Ялте – я. Не видя хороших худож[ественных] произведений, я могу делать гораздо больше, несравненно хуже, чем я могу в настоящее время сделать.
Это ужасно, а между тем, я уверен, как уверен в своем существовании, что действительно хуже работаю, чем мог бы при лучших условиях. Правда, бывают у меня минуты художественного ясновидения: вдруг ясно вижу все, что нужно сделать в картине, все, до подробностей, но это всегда поздно, т.е. тогда, когда картина уже почти готова, а ясновидение мое заставляет переделать все сверху донизу. На это честный художник скажет, что никогда не поздно сделать так, как будет лучше, и скорее написать одну картину вместо десяти, но такую, которой будет доволен.
Но я не могу быть честным художником: у меня детей куча, долгов куча; доктору вон отдать надо. Подло это до крайности, - и грубо, и пошло, - да уж, видно, ничего не сделаешь. Может впереди времена лучше будут.
5 января.
Отчего это в эскизе всегда лучше картина, чем в оригинале? Это, вероятно, от того, что эскиз много обещает; каждое запутанное место может казаться чем-то лучшим. В картине обещаний нет, и все, что сделано, то и есть. (Какая чепуха преотличная! Мне в Ялте уж и думать-то лень).
Почта теперь привозит из Петербурга корреспонденцию на двадцатый день, за что я готов повесить всех служащих. Для меня получение писем – все, особенно теперь, когда даже погулять по болезни нельзя выйти. Погоды стоят просто на смех: тепла меньше 10 градусов не бывает, конечно, днем; ветров всю осень и зиму не знают, и только последние два дня задул такой сильный восточный ветер, что во многих домах выдавил стекла. Олехнович (мой доктор) сегодня меня удивил, сказавши на мое замечание, что он – без кашне: сегодня очень тепло. Ведь Олехнович и изображение чахотки это одно и тоже; если такой человек говорит, что тепло.
Ах, двадцать раз, до какой степени мне скучно! Эта скука начинает обращаться в какое-то болезненное состояние.
На Новый год до трех часов ночи такая ружейная перестрелка шла по городу, что хоть святых вон неси. Многие кухарки и прочие люди, не обвыкшие в военном деле, много посуды непроизводительно побили; слышно даже, и раненые есть… Особенно сильное ружейное дело шло против нашего дома, на Базарной, всему миру известной улице. Красивые здания портного Абрашки и присутственных мест весьма эффектно освещались в ночной темноте, выставляя при этом удобном случае на удивление умиленных народов два поучительных предмета: «Вновь прибывший иностранный портной с Одессы» и «Упрощенное городское управление». Наша служанка из «хахлив» при каждом выстреле изволили орать на весь дом: «Ой, мамо моя!», чем привела весь дом в крайнее бедствие. Оно, впрочем, за совершенною сипотою скоро перестало быть слышно, и гармонические перекаты блокады Нового года уже не нарушались стонами страждущих.
14 января.
Грустно, грустно, то оправдываются мои предчувствия, что здесь работать для меня становится с каждым днем труднее. Но, что же делать? Судьба!
Природа всегда одинакова, и наедине с ней быть долго нельзя (впрочем, я этому не совсем верю; даже скорее готов отрицать, а между тем факты как будто вразрез идут). Природа мне может принести, если я ею одной буду пользоваться, больше вреда, чем, например, жизнь в Париже, в среде картины и художников. Я настолько люблю природу, настолько всматриваюсь в неё, что мои картины начинают хромать смыслом, изобилуя подробностями.
Как ни сильно я страдаю от своего исключительного ненормального положения, эти страдания никогда, если бы даже они продолжались всю мою жизнь, никогда не разрушили бы во мне художника, никогда не остановили бы совсем моего развития. У меня есть другой, более страшный враг: это – моя болезнь. Я опять болен, опять похудел, как щепка. Доктор, впрочем, говорит, что это все ничего. Я сам готов разделить его мнение, особенно не чувствуя слабости, которая при всех серьезных болезнях необходимый результат; но, сообразив хорошенько, невольно приходят в голову скверные мысли. Мне двадцать три года только что исполняется – время, когда натура быстро работает и быстро починяет свои недостатки, - а я уже два года, при постоянном лечении в хорошем климате, осталось в весьма далеком от здоровья состоянии. Как возьмешь все такие штуки в расчет, так всякие желания верить, «что ничего», пройдет.
Картину на конкурс продолжаю писать, а следовательно и мучиться; да еще волы забрались – черт знает, что такое! Эта картина или очень хороша будет, или замазанная, замученная до последней степени вещь. У меня до безобразия развивается чувство каждого отдельного тона, чего я страшно иногда пугаюсь. Это и понятно: где ясно вижу тон, другие ничего могут не увидеть, или увидят серое или черное пятно. То же бывает и в музыке: и иногда музыкант до такой степени имеет развитое ухо, что его мотивы кажутся другим однообразными. Вообще колорист должен писать не по своему, а рассчитывая на массу, на её более грубое развитие. Картина, верная с природой не должна ослепить каким-нибудь местом, не должна резкими чертами разделяться на цветные лоскутки… Господи, да зачем же я все это пишу? Я как будто косвенным путем стараюсь доказать, что мои картины – чудо, а если их не понимают, то это по невежественности, особенно «Эриклик».
Меня крайне связывает само производство дела: жухлость, порча красок страшно изменяют мои картины, которые обыкновенно частями чернеют, частями улетучивается их цветистость, вследствие «богопротивного шкипидара». Я до такой степени несистематично пишу картины, что они буквально, видимо портятся. Уж какими-то способами не пробовал – одно хуже другого!
Что же касается до моей физиономии, то она сильно изменилась и постарела, и хотя седых волос и не замечается, а все-таки видимо постарел.
28 января.
Физическая атмосфера Ялты в последнее время отвратительная: дожди, туман и кромешная тьма…
Советовался с Олехновичем о моей поездке в Питер (преодолел - таки справедливую, впрочем, стыдливость относительно этого вопроса). Лучше бы было не спрашивать, во всех отношениях было бы хорошо! При первом моем слове он рот разинул и очень медленно протянул: «Как же это можно, когда болезнь ваша еще так серьезна? Да разве вам так необходимо съездить в Петербург? – «Еще бы, доктор, совершенно! Ведь у меня дела до крайности запущены!» - «Ну, в таком случае, летом съездите на короткое время. Теперь даже и это невозможно решить до начала лета, ибо болезнь Ваша усиливается, и в самую серьезную сторону».
Я, конечно, постепенно привык к некоторым лишениям; но привыкнуть ко всем невозможно, а то, к чему я не привык и привыкнуть не могу, постепенно увеличивается, и пропорционально увеличений этих нравственных лишений растет расстройство организма, нервы которого постоянно в раздражении. До какой степени доходит у меня эта нервная деятельность и до какой степени непосредственно вредит организму, можно судить из следующего: достаточно получить дурное впечатление, для того чтобы немедленно пропал аппетит, заболела голова, явилось неутомимое чувство жажды и проч., и проч. Все это непосредственно следует за впечатлениями и иногда продолжается подолгу. Это, по моему, главная причина болезни, что разделяет и доктор. Чего я никогда себе не прощу, так это того дня, когда я согласился принять заказ и тем согласился расстроить здоровье. Я начал болеть с того самого дня, и вот дошел-таки до цели. Это – хороший урок, если он вовремя, и теперь всякие заказы для меня – вещь немыслимая. Но ведь надо же, точно на смех, заболеть тогда, когда именно это-то и не нужно.
Что я болен – это доказывает мое постоянное желание поехать то на Мадеру, то в Каир, то уж не знаю куда. Вот глупое состояние! Точно какой-нибудь обожравшийся помещик, приезжая на одни воды, уже заботишься о посещении и других… легче, мол, будет. Да ведь эти все переезды – чепуха сущая и, обыкновенно, чепуха поздняя. Это последнее, конечно, думаю, не для меня писано.
2 февраля.
Получил письмо от Нецветаева. Признаюсь, не ожидал! Глуп до генерал-майора! Я всегда видел в нем человека до крайности эгоистичного, пошлого, циника и пр., но всетаки не подозревал в нем совершенного отсутствия логики, или – лучше – некоторой последовательности. О, это письмо – приобретение!
Сейчас был отвлечен звуками какого-то марша, который вытягивали из скрипок и еще каких-то инструментов музыканты, возвращающиеся со свадьбы по колени в грязи и музыкою услаждающие это неприятное обстоятельство. Половина двенадцатого ночи. Достаю это письмо-приобретение…
Дальше следует цитирование злополучного письма, сдобренного сочными эпитетами в адрес его автора:
«Какая невежа! Какой осел! Какая добродушная свинья!
3 февраля.
Продолжаю писать на конкурс – что-то выйдет! В самом деле, теперь я уже сам до крайности, до последней крайности, стеснил свое положение, свою свободу решением писать на конкурс. Это – решение человека, поставленного в положение, которое заставляет его ставить на карту очень большие куши, в надежде хоть немного отыграться.
Погоды почти весь январь стоят, как на смех, отвратительные, в том отношении, что тьма чертовская и приходится иногда не брать кистей в руки по два дня. Этого еще не доставало! Вчера было вышло солнышко, попекло немножко, а сегодня опять тьма и туман. Картина моя – страшное дело – то кажется мне хорошей местами, то все с угла до угла отвратительнее всего на свете. Но первое бывает уже очень редко.
Здоровье так же плохо, и доктор весьма недоволен этим; но на все вопросы ничего решительно сказать не хочет, т.е. не уверяет, что болезнь не очень серьезна, но и не говорит о том, насколько она имеет шансов развиваться. Микстуры и всякая дрянь постоянно переменяются, и я равнодушно глотаю и серые, и белые, и розовые, и всякие жидкости. Даже по утрам, точно камер-юнкер, сижу с чашкой какао и бисквитами – и все для лечения! Ну, это хоть не противно; а то вот рыбий жир – это уже совсем другое и на камер-юнкера совсем не походит.
8 февраля.
Я опять начинаю хворать, но думаю, что это от меня лично зависит. Мне вообще кажется – нет, гораздо больше, чем кажется, - что здоровье мое ушло куда-то и никогда не вернется даже настолько, чтобы не мучаться, по крайней мере. Я совершенно забыл ощущение здорового человека.
В Крыму весь январь месяц стоит отвратительный, не по холоду, а по тьме и ветрам. Только в последние дни явилось солнце и, с ним вместе, какое-то оживление, даже во мне. (Недаром говорят, что солнце – большой доктор).
Могу ли я сам лично быть главою, строителем окружающих меня влияний и обстоятельств? Эти влияния – самостоятельная сила, идти против которых также невозможно, как против климата, света, мрака… Я глубоко уверен, что эти влияние внешние неотразимы совершенно, и если есть люди, которых не подавила эта сила, из этого следует только то, что эти люди были во множество раз крепче других по своему устройству, и потому на них это влияние не заметно; но что влияет оно на всех неотразимо, это не может подлежать сомнению. Огонь плавит жир и другие вещества немедленно при своем приближении; платина же поддается ему после несравненно продолжительнейшего сопротивления, но все-таки плавится.
Человек – сила, давление нравственной атмосферы – большая…
Не надо писать, не хочу писать потому, что чувствую всю бесплодность и ненужность этого. Зачем? К чему? Все будет так, как должно быть. Если я не сойду с ума раньше, чем сделаюсь художником, - хорошо; не успею – не успею, и рассуждать об этом нечего. Будет то, что должно быть. Что такое художник, что такое человек, что такое жизнь? Несут паруса – плывет судно; нет их – встало, и кончено. Чего тут еще?
Надо вон отсюда скорей уехать…
9 февраля.
Каждый месяц, ушедший в вечность и приближающий тем самым мой отъезд отсюда, будет в то же время развивать во мне необычайный электронервный ток, который в последние дни перед отъездом перейдет, вероятно, в слышный треск с искрами, и в настоящий гром, когда сяду на пароход. Впрочем, на пароход не придется сесть по весьма простой причине: к тому времени будет готова ветвь железной дороги от Симферополя до Харькова… Так давно живу здесь, что уже построили железную дорогу! Я думаю, что только тогда обойму пространство времени, проведенного мною здесь, когда буду ехать по Петербургу. Теперь еще не могу себе ясно представить, давно ли я в чужании, много воды утекло…
Да, воды много утекло. Вот и борода так вытянулась, что уж без всякого труда можно в кулак ухватить, да и усы уже начинают раньше зубов пробовать все, что ни поднесешь ко рту, а Роман часто замечает: «Федя, у тебя пепел на бороде». И ведь не удивляешься…
Еще вчера только не было ничего дороже широкого луга, речки с купающимися ребятишками, ружья самодельного, даже бабки; а теперь?.. Далеко, далеко укатилось детство, и никогда не вернется с своими радостями, свежим утром, с криками и смехом, с хрустальными чудными дворцами и со всем, со всем своим таинственным очарованием…
Как перейдешь к таким воспоминаниям, чудятся серые ивы над ровным с камышами прудом, чудятся живыми, думающими существами. Черт знает, какое хорошее было время! Если бы мне сию минуту перенестись в такое родное место, поцеловал бы землю и заплакал. Ей-богу, так! Глубок, глубок смысл природы, если его кто понять может!
19 февраля.
Здоровье опять хуже немного. Погоды прекрасные и теплые 14 и 15 градусов; трава и цветы – просто чудо, только гулять некогда.
25 февраля.
25 февраля 1873 года. Ай, ай! В 1871 году я прибыл в Ялту, и вот, не выезжая, приходится писать: «Ялта, 1873г.»; это ужасно…
Ну, с чего бы это начать?
Вечер, девять часов и три четверти. Лампа изображает солнце своим шаром и постоянно – ровным светом. Мама сидит напротив меня, по ту сторону круглого стола, покрытого очень красивою, черною, с разными разводами, салфеткою. А вот и пилюли с длинным, как хвост, ярлычком. Куча альбомов, страницы которых усеяны эскизами, большей частью совершенно глупыми… некоторые – эскизами ширм. Длинные такие и неуклюжие эскизы, точно солдаты готовящиеся к смотру и из кожи вон вылезающие от старания принять видный вид. Но именно поэтому-то отдуваются щеки у этих солдат-эскизов, оттопыривается брюхо и выступает пот. Вот мраморное блюдо, на нем печать… Вот записная книжка, полная графами «расход»; «приход» чувствует себя до такой степени маленьким человеком, что не осмеливается занять более полулистика, и то, кажется, повесив голову, плачет о своей судьбе, которой заправляют великие князья, обходя даже ближайшее начальство. Вот портфель, давно разучившийся закрывать свой рот – так немилосердно хозяин напихал туда всяких писем, записок и вечных эскизов. Вот и хамелеон, виновник сегодняшнего праздника. Какой красивый, словно радуга. Вот, против стола, у стены, пианино; вот, около на стуле, скрипка – артист живет, так и видно. Но ни пианино – увы! ни скрипка – увы тоже, не может пожаловаться на частую работу: артисту не до ни! Артист целые дни, покрытый потом, разбирает солдат-эскизы, творит новых солдат, соображает, выгадывает, и проч. и проч. В такие минуты от него не только пианино и скрипка – люди нежные и боязливые, - сторонятся и более сильные создания, не находя приятным получить в бок довольно значительный толчок. А было бы время, занялся бы серьезно этими господами. Скрипка – вещь крайне соблазнительная, и могу поручиться, что был бы хорошим скрипачем, но (проклятый звук это «но», в нем вся суть подлости)… но время возьмет очень много, да и мозоли украшают все четыре пальца левой руки, может я уже очень усердно нажимаю струны. Хотел вечерами заняться пианино, и опять проклятое «но» все портит. Значит, до будущего, когда свободы маленько достану.
Как только принялся я за пианино, только ткнул пальцами, как в голове возникают целые хоры – колоссальные хоры и до такой степени хорошие и сильные мотивы, что я до головной боли доходил, стараясь, не зная нот, передать эти созвучия, что, конечно, не выходило и выйти не могло… другой раз, ночью, так ясно льется какой-нибудь мотив, притом не один голос, а целые комбинации и переходы в тоны, так ясно, что сядешь, и слушаешь, и рвешься к инструменту, да совестно пробудить весь дом, набитый убогими всякого рода, тот без голосу, с кашлем, похожим на голос скворца, тот с катаром желудка, который пополам разрывает одержимого субъекта; тот отчего-то перекосился весь, и так далее. Вот почему я поеду только в то место Италии, где нет этих убогих, производящих на меня очень неприятное впечатление. Кто не жил в такой среде больных, тот не имеет никакого понятия об этой всеуничтожающей атмосфере, и нравственной и физической. Этот ряд жалких существ, жизнь которых сводится на ничтожное существование, на отсутствие всякой живой силы, - этот ряд представляет что-то до того исключительное, ненужное…
Ехать за границу я не могу, потому что нет денег… Ехать без денег, да без знания языка нельзя. Ехать без паспорта нельзя. Ехать на авось я положительно не могу, потому что будет шука-мука гораздо худшая житья в Ялте, потому что это не только не принесет пользы, принесет положительный вред. Да, наконец, просто невозможно – невозможно, как воскресение из мертвых.
Я сам себе враг! Я никогда не в состоянии буду видеть верно своих картин, т.е. всегда буду хуже видеть настолько, насколько выше и выше поднимается мой идеал. Ни одна черта, ни один тон, ни одна комбинация не похожи на то, что я хочу выразить; все так далеко от идеала моего! Вот пытка духа, вот кровь и борьба души с телом – с телом, ничтожным смыслом, но сильным своим скотским элементом физической силы! (Об этих страданиях можно писать, не называя себя подлым, потому что такая борьба и пытка – вещь хорошая, производящая всегда хорошее, здоровое впечатление на читающего, хотя бы эта пытка кончилась смертью. Смерти, впрочем, в этом случае нет, ибо умирает только тело – ничтожная, никому не нужная масса, когда в ней нет души). Есть тут маленькая чепуха от нежности, но это пустяки…
Но картины, сидящие в голове, начинают рисовать мне более близкую перспективу удачи… Я могу делать гораздо лучше, чем делаю под гнетом обстоятельств, при их значительном улучшении я сразу напишу картину так как могу.
Эта картина сразу поднимется гораздо выше, и будет носить платье совершенно не похожее на прежние. Если эта гипотеза оправдается, я буду торжествовать! Значит я угадывал себя, значит верно и точно понимал себя. Она должна оправдаться. А если нет?.. Пустяки – должна!
23 февраля.
Шишкина признали профессором! Слава Богу! Он хоть прикидывался, а все-таки крепко желал этого. Ну, да это ничего.
3 марта.
Пишу панно для великого князя: уже два почти окончил. Жду с трепетом сердечным суда над моей последней картиной.
Фотограф Рыльский разодолжил: купил половину Ялты. Ходит и смотрит – увидит и купит. Да и какими кусками покупает – страсть! Словом так: «Вот это, что я вижу, - покупаю, а вот то, что не видно, - и то покупаю, и шабаш, без рассуждений!»
Многие говорят, и сам Рыльский, что наследство в 1 000 000 получил; а я так полагаю, он получил воспаление мозга со всеми добавлениями. Приходит в магазин Фарбштейна (лучший и очень дорогой магазин иностранных произведений) и покупает вещи не парами, не дюжинами, а целую полку сразу. Мотнет этак в воздухе пальцем на какую-нибудь часть магазина и скомандует: «Вот это заворотите ка в бумагу и ко мне». На такой полке стоят и вазы всякие и часы, и подсвечники, и кальян какой-нибудь; серебро и золото, и драгоценные камни, - все равно: заворачивают все и со шкафов, да к Рыльскому, к Рыльскому её, туда её, к черту, в шайку, в подкладку!!! Вот оно. И в Ялте не без рыцарей. Из-за границы идут целые флоты с мебелью и всяким добром: Рыльский новые дома меблирует. Фотографию сломал и строит другую, трехэтажную, каменную, с газом, с какими-то подъемными машинами, с артиллерией, кажется. Открывает заводы и мастерские, в которых будет производить то, чему ещё и имени пока нет и о чем Рыльский еще только договаривается. Да нет, брошу: нужно сто писарей для описания одной только половины предприятий Рыльского.
Вообще Ялта в этот год разрушила все авторитеты, и Америка перед ней ничто, нуль. Вся изрыта, вся завалена камнями, лесом, известно; дома растут в неделю, да какие дома! Меньше трех этажей и дешевле пятидесяти тысяч – ни одного; гостиниц строится столько, что все жители Ялты и все приезжие пойдут только для прислуги, да и то, говорят, мало будет. Нет, не могу! Подавляет эта кипучая деятельность, страшит этот новый невиданный даже в Америке город. (Тут очень много правды, т.е. относительно Рыльского – все, а относительно построек – третья часть… не много ли хватил?)
Кстати, врагов у меня теперь полна Ялта – уже! И евреи, и греки, и русские, и поляки, - всякой твари по три хари; есть, одначе, и друзья, до отъезда может быть.
А занимательнее всего то, что враги-то самые заклятые - те, которым больше добра сделал. Вот оно тут и рассуждай, поди, о врожденных чувствах, чести и прочих знаках! Мне кажется, что врожденного-то в человеке только и есть – «трать», и что на основании этого чувства прирастают к человеку и другие: «урви», «не щадя облупи», «еть чужое – свое успеешь» и проч., и проч…
Занимает меня очень работа ширм. Какой я секрет узнал относительно их композиции! Нужно только этакую дыру округлить, а в самую-то эту дыру – лупи что хочешь; так что я эскиз каждый начинаю так: дыра есть – кончено, все обстоит благополучно.
Там в середине мазнешь голубенькой, беленькой, желтенькой, - начинай другую. Так что работа идет скоро. А лесу в картинах будет… на десятину не усадишь, да все необыкновенные: должно быть все розовые дерева, потому – все колеру одинакового. То-то будет радость! То-то веселье!
11 марта.
Тут мама на столе разложила фрукты глазированный заграничные!... Вот я и ем! Вытащил этакую грушу за ухо – вкусно; и запах фруктов сохранился, и кислоты нет – ничего, ладно… Ну, грушу съел, а писать все-таки не могу. Эх ты пропасть! Нечто еще грушу съесть?..
Сидел у нас приезжий питомец, кашлял, а я ему помогал. Тоже насчет болезней разных потолковали: отчего это они так вот вольются в тебя, и шабаш, таскаешь их, как жучка, клеща лесного? Тоже насчет эскулапов речь была, и все очень умно было разжевано. Посидели, чайку попили, еще о болезнях потолковали… Да, - об одеяле говорили: он одеялом хозяйским недоволен (недоволен одеялом!), так рассуждали, как лучше: здесь ли купить, или из Петербурга свое старое выписать. Нашли, что выписать по почте дешевле. Он видите ли денег с собой два рубля сорок копеек привез, из коих и на дорогу же истратился, а потому его, а особенно меня, очень занимал вопрос: как распределить два рубля сорок копеек, чтобы их хватило до сентября? Он не теряет надежды, потому что господин Репин, его учитель, человек солидный и с весом, сказал ему, что в Крыму даже совсем денег не надо, что эти два рубля сорок копеек он берет на удовольствие и комфорт…
Кого еще Репин посылает в Крым? Может он всем отправляющимся дает рекомендательные письма ко мне.
В питомце еще ничего не замечаю, кроме огромного рта и таких же зубов, которым есть-то нечего. Я никогда не смеюсь над недостатками человека… В глазах у него, как будто что-то есть. Думаю, что он совсем ординарный – это во всяком случае. (О, дай боже ошибиться!). Приехал он сюда дня четыре уже. Привез письма от Репина, Васнецова и… Максимова – и не ожидал, и не благодарю… В Петербурге нет эпидемии умопомешательства на всех сплошь? Ведь Максимов… тоже сюда… того… едет. Правда ли, спрашивает он меня, что два рубля сорок копеек не слишком ли большая сумма, и даже просит уведомить, можно ли приехать с одной луковицей (буквально). Ему я отвечу, что это смотря по характеру и что я лично знаю людей, которые добрались даже до Иерусалима… с березовым поленом (в самом деле знаю таких). Шутки в сторону, хвост набок, а меня тут растерзают… Я уж лучше прямо завтра за границу.
14 марта
Погода выкинула необыкновенную штуку; 11 часов вечера, и… только шесть градусов тепла, когда днем было шестнадцать с половиной градусов, и даже я (!) гулял. Выкрутас необыкновенный! (А бок болит! Подлец этакий! Ведь без всякой причины).
15 марта
В питомце приезжем ничего не нахожу, кроме какого-то равнодушия ко всему, кроме пустяков. Вообще мне кажется, что он в нравственном отношении есть неразвившийся Макаров. Бывает у нас каждый день, и целый день до вечера, когда спать идет, сидит и молчит, разве изредка ухо закручивает; кругом – книги, альбомы и проч. добро, которое всегда интересует художника – ничуть не бывало! Солнце на горах такие тени и света бросает, что я едва удерживаюсь и чуть не кричу караул, - он… ухо покручивает – и ничего, да и то показать надо, сам никогда не заметит. Этого уж я не выношу, хотя выношу.
Ну, если бы он обо всем так думал, т.е. ни о чем не думал, тогда ничего: хавронья и шабаш; нет, он считает необходимым замечать все мерзости своего хозяина и неудобства квартиры, и каждый день буквально передает, как его сегодня и чем накормили. Хочет выехать из Крыма вместе со мною, потому – говорит – скучно будет, никаких знакомых, никаких развлечений, квартира – мерзкая. Он, изволите видеть, хочет жить в Крыму так, как я живу, т.е. весьма комфортабельно для Ялты. Я ему конечно порассказал, как я жил в Крыму прежде, и чем пользовался, и что тому, кто живет два года и оба года постоянно болеет, можно позволить себе это.
Да ведь, говорю, для этого надо деньги иметь, и деньги большие, а ведь у Вас сто двадцать пять рублей в кармане, а заработать Вы не можете очень многого. «Вот поеду и поеду».
- «Куда же вы поедете?» - «В Финляндию» (?) А?! «А здоровье?» - «Там климат очень хороший и теплый, не русский, а молока, масла чухонского, да все свежее, сколько хочешь»… Вообще очень недалек, судя по всему этому. Сверх сего, не принимает ни одного совета, т.е. он глядит и слушает, а нравится ли ему, или нет, сам дьявол не разберет. Я еще не уверен, но думаю, что мне с ним придется добре похлопотать. Ну, много места ему уделил. Что бы еще не забыть? Или забыть можно…
Здоровье эти дни идет лучше. Вчера начал работать проклятое панно. Боже мой! Я пропустил по болезни столько времени, что уверен, к сроку не успею. Два панно еще совсем не начаты, а два начатых возьмут еще день другой; следовательно, на два панно остается четырнадцать дней. Ну и черт их побери.
25 марта
Я переехал на другое место, на дачу Цабеля. Это сделано по приказу доктора. Он сказал, что я в прежней квартире не мог поправиться. Эта дача стоит в месяц сто рублей за одни стены и мебель!!
Отложил окончание ширм до конца мая потому, во первых, что работать не могу, а во вторых, великий князь в Сорренто.
Здоровье весьма плохо… Грудь очень болит: т.е. – …… слабость и проч. Я даже мнительным скоро сделаюсь. Доктор говорит, опасности нет (?), но катар очень силен. Вот тут и пойми что-нибудь! На Мадеру советовал как-то ехать!!! Вот, признаюсь не доставало! Да я теперь все места этакие, целебные, просто ненавижу заранее! Ни в одно не верю: все они, и вместе с докторами, яйца выеденного не стоят, еще хуже! Во всяком случае, за границей буду выбирать не те места, в которые докторов и больных сажают. Черт с ними совсем! На Мадеру!! А?! Да ведь это уж лучше удавиться, чем сдохнуть там от скуки…
Я ведь очень глуп бываю, когда думаю о том, скоро ли я поправлюсь? Ведь это вопрос глупый! Ну, разве я когда-нибудь буду здоров? Глупо и только. Я уже рад - радехонек, что Роман и мама не болеют. Особенно я боюсь за Романа. Ведь у нас у всех наследственная слабость грудных органов.
Погоды стоят все время отвратительные: дождь, туман, грязь. Только вчера и удалось выйти на часок. Но что это за штука – юг? Только что шел дождь, туман без милосердия заворачивал все, что можно, в свое поганое одеяло, и вдруг – рай земной, буквально. Цветы покрывают и землю, и деревья, и стены домов, и уж не знаю, что еще. Да какие цветы? О, боже мой! Если бы здоровье!.. Эта зелень молодых кустов и деревьев, эти строгие мантии кипарисов и лавров – очаровательны.
Питомец с восьмого апреля будет жить с нами. Так же молчит, и если раскроет рот, непременно о своей квартире и хозяйке. Скучно!
3 апреля
Скучаю… Словом – то же. Здоровье лучше, но еще не работаю, а только думаю, думаю, обдумываю, передумываю и проч. (думаю, конечно, не о работе).
Как скучны, как однообразны дни! Хотя они совсем разнообразны, но не для меня. Для меня существует только однообразие: сегодня доктор, завтра без доктора, на третий без доктора, и т.д.
Погода сегодня самая замысловатая, т.е., собственно не погода, а день замысловатый. Было утром (у меня оно продолжается до часу оченно прекрасно, и даже я своей персоной пошел в Ялту (около версты), в магазею. Вернулся в сильнейший южный ветер (этот ветер очень хорош здесь). Чайку попили, поговорили – глядь, на горах пожарище лесное, величины необъятной; и Ялту, и нас, и горы стало покрывать дымом, а солнце преобразило свой свет в красно-желтый. Дым поднимался громадными тучами с места пожарища и застилал даже небо и солнце. Вероятно, горит сразу на двух, нет, гораздо больше, трехстах десятинах. Наставать начал вечер. Вдруг через горы подул такой страшный северный ураган, что захлопали двери, зазвенели стекла и поклонились кипарисы и тополи до земли. Пожар разом вырос и высоко кидает пламя, а Ялта отстоит верст на двадцать…
Вот уже третий лесной пожар в горах около Ялты, который я вижу в одну весну. А еще сколько погорит летом! Ведь лес в России пропал совсем! Ведь мы – азиаты; что нам лес! Сгорел – сгорел: какому черту он нужен, какая от него прибыль? Подлецы!
Ну-с, кого еще обругать?
8 апреля
… ширмы теперь для меня нужнее, чем для вел. Князя! Если я не кончу ширм я не выеду из Ялты – не на что. Если я брошу все, о мне самому придется бросаться куда-нибудь. Это судьба, обойти которую нужно стараться, но нельзя без больших жертв. У меня в Ялте долг 1373 руб. Для того чтобы прожить до конца мая нужно 415 руб.
Если я брошу ширмы, то не буду в состоянии выехать из Ялты, а если я не выеду в конце мая или первых числах июня я здесь умру.
29 мая
У меня теперь в голове так странно, так скверно, как и на душе.
Все кто только знает меня, все думают, что я живу здесь потому только, что мне тут нравится, да и шабаш; никому и в голову не приходит, что я не могу, не могу до сих пор вырваться отсюда.
Кроме мерзостей, бед и болезней на меня в Крыму не упало ни одного светлого луча! Разве только иногда забываешься перед натурой, только её грандиозность и красота доставляли мне действительно счастливые минуты.
Завтра нужно съезжать с квартиры Цабеля, а другой квартиры, хоть разорвись, нет. Я, больной до крайности, изъездил все дачи, и дешевле 800 руб. в пяти месяцев нет. Боже ты мой! Да что же мне делать?! Откуда же наконец я стану доставать деньги больной?! Положительно до настоящей минуты я ни одной квартиры, ни одной дачи не знаю, и что будет – не понимаю… Я просто скоро, кажется, с ума сверну: жутко больно, да и давно уж очень это терпеть приходится, и голову с собой вместе ломать.
Худо мне, и не знаю, выдержит ли моя нравственная сторона этот новый чудовищный искус. Думаю, что будет худо, ибо я буквально тоскую по России и не верю Крыму, сомневаюсь, наконец, в докторе, хотя, очевидно, он помогает; но я уже требую большего, чем прежде, что здоровье мое все, кажется, хуже и хуже с каждым годом…
Похудел я жестоко, зато глаза постоянно так чисты и блестящи, как у меня у здорового никогда не бывало.
Здоровье, - не знаю кого и что благодарить, - уже не плохо, а моя жизнь в опасности, если я не отделаюсь от всего меня грызущего и сосущего, и если я не уеду за границу. Я жду Боткина, который. Кажется, с императрицей. Он решит мою участь окончательно. В долгу кругом, неприятности постоянные. Жизнь дорога до невообразимого: двести пятьдесят рублей я должен приготовить в месяц. Не работаю я уже шесть месяцев. Да что тут писать? Все можно сказать одним словом: денег нет и неоткуда взять, и нет никакого вида, чтобы ехать за границу, если бы даже и упал с неба мешок золота. Мне нужно, по крайней мере, четыре тысячи рублей одновременно, чтобы уплатить все долги и оставить себе на прожиток в Ялте и на отправку осенью семьи домой…
Если у меня не будет денег и вида, у меня зимой разовьется чахотка в самой сильной степени, ибо для этого все готово.
(Думаю, что судьба не убьет меня ранее, чем я достигну цели. Может она сделает наоборот. Ну что ж делать. – Рано родился). Я думаю, что помоги мне человек, имеющий возможность помочь, я наверное выздоровлю. О, боже!
Погоды у нас стоят мерзейшие, я даже воздухом пользуюсь редко…
***
На этом дневник обрывается. Было, правда, еще несколько слипшихся от влаги листов, на которых чернила совсем поблекли и мне ничего не удалось разобрать.
Федор Васильев умер 24 сентября 1873 года в Ялте, так и не уехав лечиться за границу, и не дождавшись ни от кого помощи. Вечная память ему и слава великому труженику и художнику, так рано ушедшему из жизни.
Когда пишешь о Васильеве, невольно думаешь о том, что сделал ты сам в его годы. Наверное, этим и полезно еще одно упоминание об этом «гениальном мальчике», как называл его Крамской. Когда кажется, что уже все известно из того, что он оставил, не можешь удержать искреннее удивление и восхищение встречая еще одну, новую его работу. Сколько их хранится в разных музеях и частных собраниях. Лишь только немой вопрос, когда и как он мог это сделать, успеть, больной, в свои 23 года? И при жизни он не знал счет всему сделанному и судьбу многих своих работ. Не изданы и пылятся в запасниках Русского музея и Третьяковки его рисунки, альбомы… Когда они увидят свет?!
Лето 1996 года я провел в Симеизе. Жил в одном из санаториев, оправдывая свое пребывание в нем тем, что делал какую-то оформительскую работу. Там оказалась небольшая библиотека, где и привлек мое внимание увесистый том переписки Крамского с разными художниками, в том числе и с Васильевым. Издана книга была еще в 30-е годы и не рассчитана на широкий круг читателей. Письма выглядели пространно, в духе того времени, но содержали интересные детали и подробности из жизни рано умершего художника. Они были искренними и производили впечатление, будто Васильев разговаривал сам с собой, записывая то, о чем думал, и что привлекало его внимание независимо от адресата. Тогда и возникла у меня идея этой книги. Понимая, что обычный читатель вряд ли будет исследовать переписку Васильева, чтобы извлечь из неё какие-то интересные подробности я решил сделать это сам и стал выписывать, ничего не изменяя, наиболее яркие описания, размышления художника, его впечатления от курортного города, располагая их в том же порядке, как они были датированы в письмах. Все это повествование выстраивалось в своеобразный дневник, так что, и придумывать ничего не пришлось, лишь разыграть неприхотливый сюжет с находкой «дневника», который опирался на мои реальные впечатления от пребывания в Ялте летом 1995 года. И описание набережной, и одинокая женщина на скамейке под старым зонтом с бродячей собакой, и мрачный двор, и гора всякого хлама, и… сундук, и старая книга по архитектуре, на страницах которой румынские солдаты «расписывали» пульку, играя в преферанс, все это настоящее, вот только дневника на дне сундука, к сожалению, не было. Оставалось… его придумать.
Хотя, «дневник» может быть и был… В одном из писем Васильеву, восхищаясь его картиной «Мокрый луг», Крамской писал: «Эта картина рассказала мне больше вашего дневника…»
Вел Васильев дневник или нет?.. Остается лишь предполагать…
Таким образом, родилась эта фальсификация. Пример не новый в литературе. Но «обман» был оправдан и направлен во благо – заинтересовать читателя, создать интригу и донести до него наиболее яркие отрывки из писем гениального художника, таким образом, еще раз напомнить о нем, раскрыть его внутренний мир, а попутно отразить подробности его пребывания в Ялте и жизнь этого курортного города в то время. Не знаю, насколько мне это удалось. Но если вы читаете эти строчки, значит, познакомились с содержанием книги, и труд этот был не напрасен.
Правда, за другими делами, работа эта была отложена и рукопись, (ведь компьютеров тогда не было и все пришлось переписывать), пролежала у меня около двадцати лет. За это время многое изменилось не только в стране, но и в моей жизни, а я все не мог вплотную заняться реализацией этого плана. Пару раз пытался набирать на компьютере и опять откладывал… Наконец, понял, что должен это обязательно сделать, отложив все дела. Так что книга эта создавалась не для заработка или тщеславия, а для вас и… Федора Александровича Васильева. Это тот скромный труд, который я могу положить к подножию его памятника, с глубоким уважением и восхищением перед талантом художника.
«Мир его праху, и да будет память его светла, как он того заслуживает. – Писал Крамской И.Е.Репину 8 октября 1873 года. – Милый мальчик, хороший, мы не вполне узнали, что он носил в себе, и некоторые хорошие песни он унес с собой – вероятно».
И в письме от 27 ноября 1873 года: «Приехала мать Васильева, привезены вещи, сколько он работал – страх! Какие рисунки, сепии, акварели, какие альбомы и что за мотивы!.. Уж очень он мне нравился. Хотя, я не был слеп к его недостаткам».
И 3 августа: «Дней пять назад я получил от него письмо и не узнал почерка…
Он, мой голубчик, уже не будет больше писать. Он хотя еще не умер, но умирает.
А сегодня получено от матери к Шишкиным, где она сообщает, что нет надежды, и доктор сказал, что едва он протянет до сентября… Я полагаю, что русская школа теряет в нем гениального мальчика. Разумеется, я к нему чувствую особого рода слабость и это заставляет относиться к моим ему похвалам с особой осторожностью, но все ж таки у него было нечто чего не было и нет ни у одного из наших пейзажистов».
Накануне, 1 августа 1873года, Крамской писал Васильеву: «Господь да хранит Вас, берегитесь, Вы еще нужны России».
Удивляешься сколько юмора, иронии в письмах Васильева, дни которого уже были сочтены. Даже подписи под ними часто озорные, шутливые: «Отставной член «Общества вольных шалопаев», «Федька Васильев из Капернаума», «Барон Брамбеус», «По гроб Ваша кисейная девушка», «Ваш по гроб жизни своея…», и просто «Порядочный человек», или «Ваш упорно печальный… Ф.Васильев». Но чаще в этих коротких строчках светилось искреннее и теплое отношение к Крамскому: «Друг Ваш», «Ваш друг навсегда», «Ваш Федька Васильев», «Весь Ваш с сюртуком», «Крепко, крепко Вас любящий…Будьте здоровы, дорогой мой. Дай Вам боже!»
Но в последних письмах исчезают и юмор, и озорство, подписи становятся короче и сдержанней, как предчувствие конца: «Весь Ваш…», «Ваш…», «Ваш…», «Ваш…», «Васильев».
***
Прежде чем закончить эту книгу, хотелось бы еще раз вернуться к подписи Васильева на его картине «Мокрый луг», а точнее изображению сломанного якоря, которое многие объясняют начальными буквами его имени и фамилии – Ф.В., хотя, при всем желании там можно предполагать лишь старую букву «Фита» и то лишь её половину. Но, признаться, и это не столь убедительно.
Так что же скрывается за этим рисунком и не имеет ли он какой-либо иной смысл?
Попробуем сначала объяснить его подписи… в письмах Крамскому. И начнем по порядку.
Ну, «Общество вольных шалопаев» (по аналогии с «вольными каменщиками») - это, скорее всего, шуточное название «Общества поощрения художеств».
Капернаум – древний город в Израиле на берегу Галилейского моря, где в синагоге проповедовал Христос и совершил много чудес, в том числе «исцеление расслабленного», прикованного к постели параличом, который после слов Христа: «Дерзай, чадо. Прощаются тебе все грехи», встал и пошел вместе со своей постелью. Этот эпизод мог привлечь внимание Васильева, страдающего тяжелой болезнью. Капернаум упоминается в Новом Завете, как родной город апостолов Петра, Андрея, Иоанна и Иакова. Город представлял собой тогда рыбачий поселок. Можно предположить, что Васильев так в шутку называл Ялту. Или в выборе этого образа на него повлиял один из «этюдов» Бальзака «Кошелек». Писатель обозначает так место, где в беспорядке сложено много разных вещей, что похоже на описание комнаты Васильева.
Сложнее с «кисейной девушкой» (барышней). Выражение это впервые появилось в повести Н.Г.Помяловского «Мещанское счастье» (1861г.). Оно относилось к провинциальной дворянской девушке и не имело в то время того смысла, который видится нам теперь. В.Даль в своем словаре пишет, что «кисейница» - это щеголиха, которая ходит в кисее. Васильев мог иметь в виду лишь свою одежду, иронизируя по этому поводу.
Бароном Брамбеус - это псевдоним писателя О.И.Сенковского. Его «Фантастические путешествия барона Брамбеуса» были очень популярны в 1830-е годы. Это веселое повествование о похождениях неунывающего барона, чем-то похожего на барона Мюнхгаузена, которые чередуются серьезной научной полемикой с теориями египтолога Ф.Шампольона, палеонтолога Ж.Кювье и т.д. Видимо, у Васильева были основания так в шутку себя называть. Истоки этого имени уходят в лубочную повесть XVIII века «История о храбром рыцаре Францыле Венецияне…», строчки из которой использовал О.И.Сенковский, как эпиграф к своей книге: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был шпанский король Барон Брамбеус…»
А мог ли Васильев не в шутку, а всерьез называть себя бароном? Оказывается, мог… Да, и титул графа был ему впору, если бы не традиции того времени…
Наверное, не только у меня возникали сомнения по поводу происхождения Васильева. Отец его почтовый служащий, до этого работавший помощником учителя в сиротской школе, пил и умер в 41 год. Как пишут в биографии художника, Васильев родился вне брака, как и его старшая сестра, когда он еще не был женат на его матери. И это невольно вызывает «смутные сомнения» в том, кто на самом деле был его отец.
Известно, что большую поддержку Ф.Васильеву оказывал П.С.Строганов (1823-1911) меценат и коллекционер. Несколько лет он провел за границей, где приобретал картины итальянских художников. Свое собрание живописи Павел Сергеевич разместил в построенном им в 1857 году по проекту архитектора Монигетти дворце в Петербурге, который сохранился до наших дней.
В 1851 году, через год после рождения Ф.Васильева, П.С.Строганов женится на Анне Дмитриевне Бутурлиной. Но детей у них не было. Может быть, поэтому он проявлял такое «отеческое» внимание к Васильеву. Или причины были гораздо глубже и скрыты от нас.
Павел Сергеевич учредил премию своего имени за лучшее изображение национального пейзажа, которую, кстати, получил И.Шишкин за картину «Сосновый бор» и Ф.Васильев за «Мокрый луг». Написана она была под впечатлением от поездки в имение П.С.Строганова в Харьковской губернии.
Георгий Кириленко в своей статье о пребывании Ф.Васильева в Ялте (в книге «Крымские каникулы») подтверждает мои сомнения: «Мальчик появился на свет в 1850 г. в Гатчине близ Петербурга. Он родился до брака его красавицы-матери со скромным чиновником Петербургского почтамта Александром Васильевым. Настоящим же отцом ребёнка (по некоторым данным, да и по свидетельству известного художника И. Крамского) был аристократ, граф П.С. Строганов, широко образованный человек, художественный деятель и меценат. Павел Сергеевич питал тёплые чувства к матери своего побочного сына, но, по неписаным законам большого света, ввиду своего высокого положения, не мог жениться на женщине из низов. В этом была главная трагедия всей жизни мальчика и его матери: официально Фёдор значился мещанином, а не дворянином, и навеки был прикован к бедной семье своего названого отца».
Правда, в биографии П.С.Строганова сказано, что в 1847 – 1862 годах он был за границей. Не ясно, приезжал ли он за эти годы в Россию и мог ли быть отцом Ф.Васильева. Документов, связанных с его рождением, не сохранилось.
Можно предположить, что и старшая сестра Ф.Васильева, которая родилась в 1847 году, в будущем жена И.Шишкина, была дочерью П.С.Строганова. Умерла она в апреле 1874 года, через несколько месяцев после смерти Ф.Васильева, так же от чахотки, а вслед за ней вскоре ушел и её сын.
Георгий Кириленко пишет: «Зимой 1871 г. с Васильевым произошло несчастье, которое изменило всю его последующую жизнь: он простудился на катке и вскоре заболел чахоткой. Правда, Илья Репин вспоминал потом, что Васильев покашливал ещё и годом раньше. Да и названый отец Фёдора умер от чахотки ещё пять лет назад».
Туберкулез был тогда неизлечим, что и стало причиной ранней смерти художника. Он писал, что болезнь эта в их семье наследственная.
Историки XVIII века производили род Строгановых от татарского мурзы Золотой орды, который был близким родственником татарского хана и по иным утверждениям – его сын, который в XIV веке был послан на службу к Великому князю Дмитрию Донскому в Москву, где принял христианство и получил имя Спиридон. Его правнук Федор Лукич, (в память о котором Васильев мог получить свое имя), принявший в преклонные годы иночество под именем Феодосий, переселился с детьми из Новгорода в Сольвычегодск, где его сын Аника завел солеварный промысел.
В 1722 году Петр I пожаловал трем братьям Строгановым баронский титул, а в 1826 году Строгановы были возведены в графское достоинство. Многие из них известны своим интересом к искусству, литературе, истории, археологии.
Справа от парадной лестницы дворца П.С.Строганова в Петербурге находится мраморная скульптура лисы или волка, а скорее всего горностая, как на гербе Строгановых, с фигурным картушем, на котором в переплетении линий угадываются две зеркально отраженные буквы «S», а между ними менее заметная буква «П». Такие же буквы «С», но русского алфавита изображены над входом. Не вызывает сомнений, что это вензель Павла Сергеевича Строганова. Заостренные концы букв образуют форму напоминающую якорь обвитый веревкой. Не это ли послужило поводом для загадочного значка на картине Васильева. Ведь, если присмотреться, основание якоря на его рисунке отделено от остальной части и похоже на букву «С» с такими же заостренными краями. Далее следует прямая черта, которую можно понимать, как тире или линию жизни и… отломанная часть «якоря», напоминающая египетский крест Анх. Это один из наиболее значимых символов древнего Египта известный, как «ключ жизни». Его клали в гробницу фараонов, чтобы после смерти их души могли продолжить жизнь в другом мире. Знак этот символизировал бессмертие и вечную молодость.
Мог ли Васильев использовать эту символику, подписывая свою картину на конкурс? Не знаю, мог ли Васильев, но… Барон Брамбеус, который полемизировал с Ф.Шампольоном и был хорошо знаком с символами древнего Египта, наверное, мог.
Вернемся к знаменитой книге О.И.Сенковского:
«Я долго путешествовал по Египту.
- Барон?.. – сказал он.
- Что такое?.. – сказал я.
- Как же вы переводили эти иероглифы?
- Я переводил их по Шампольону: всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, или буква и фигура, или ни фигура, ни буква, а простое украшение почерка…»
Можно не соглашаться с этим объяснением. Это только предположение. Могут быть и другие версии. Ответ на этот вопрос знал лишь Федор Васильев. Но он не оставил об этом ни каких сведений.
Думаю, что тайна «сломанного якоря» ушла с ним навсегда…
Ю.Белов.
Симеиз, Ялта, Судак.
1996 – 2014г.г.